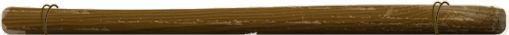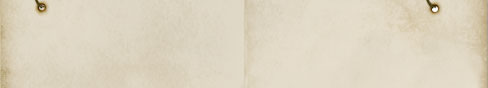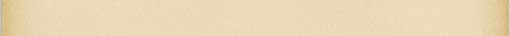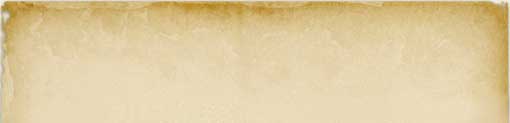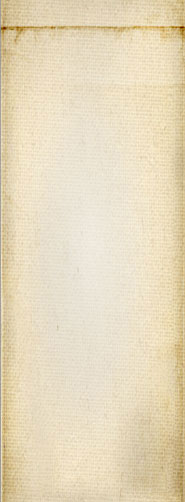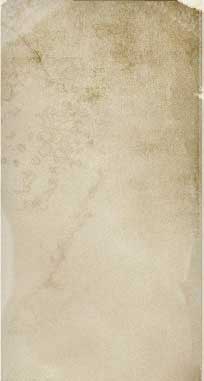Калужская епархия Истинно-Православной Церкви
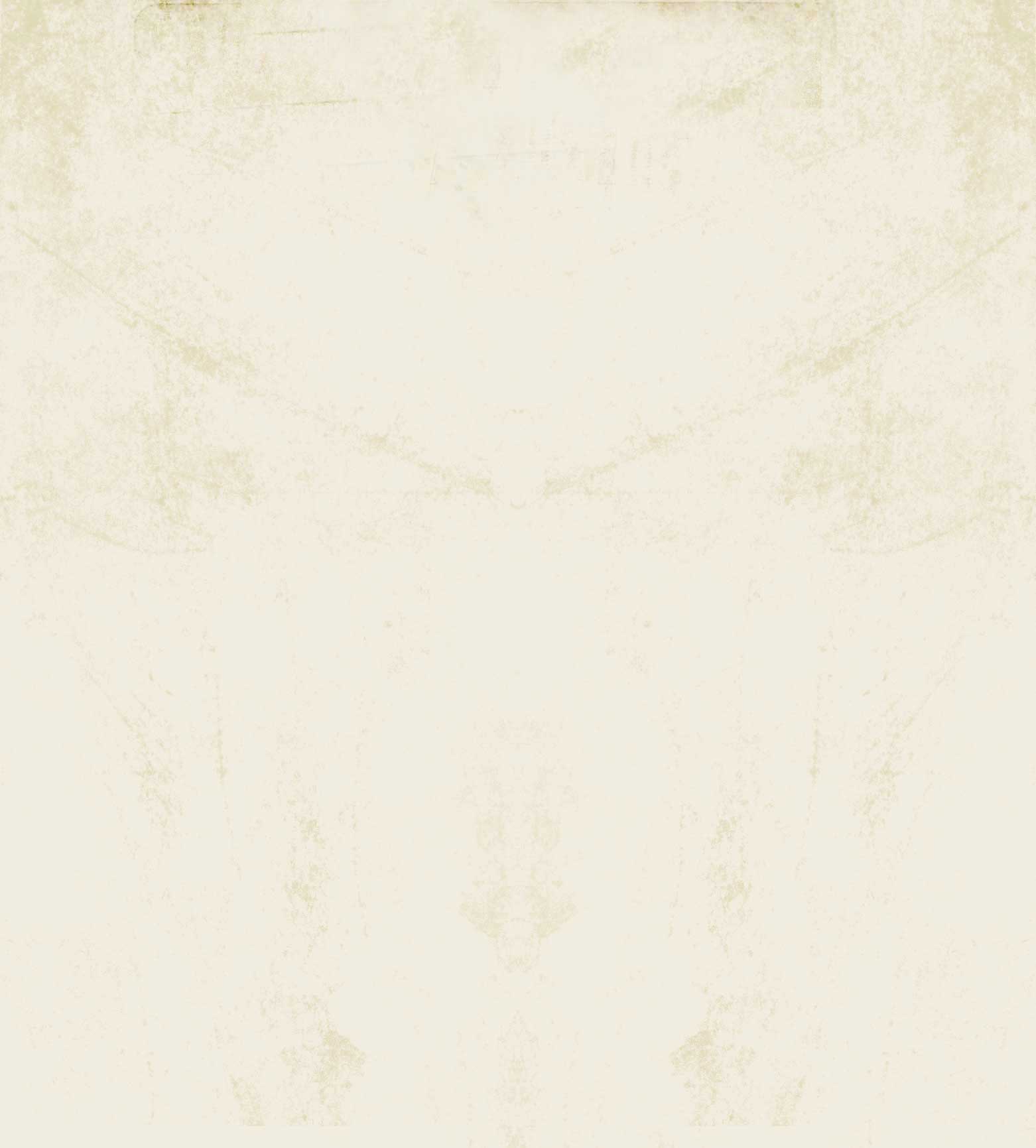
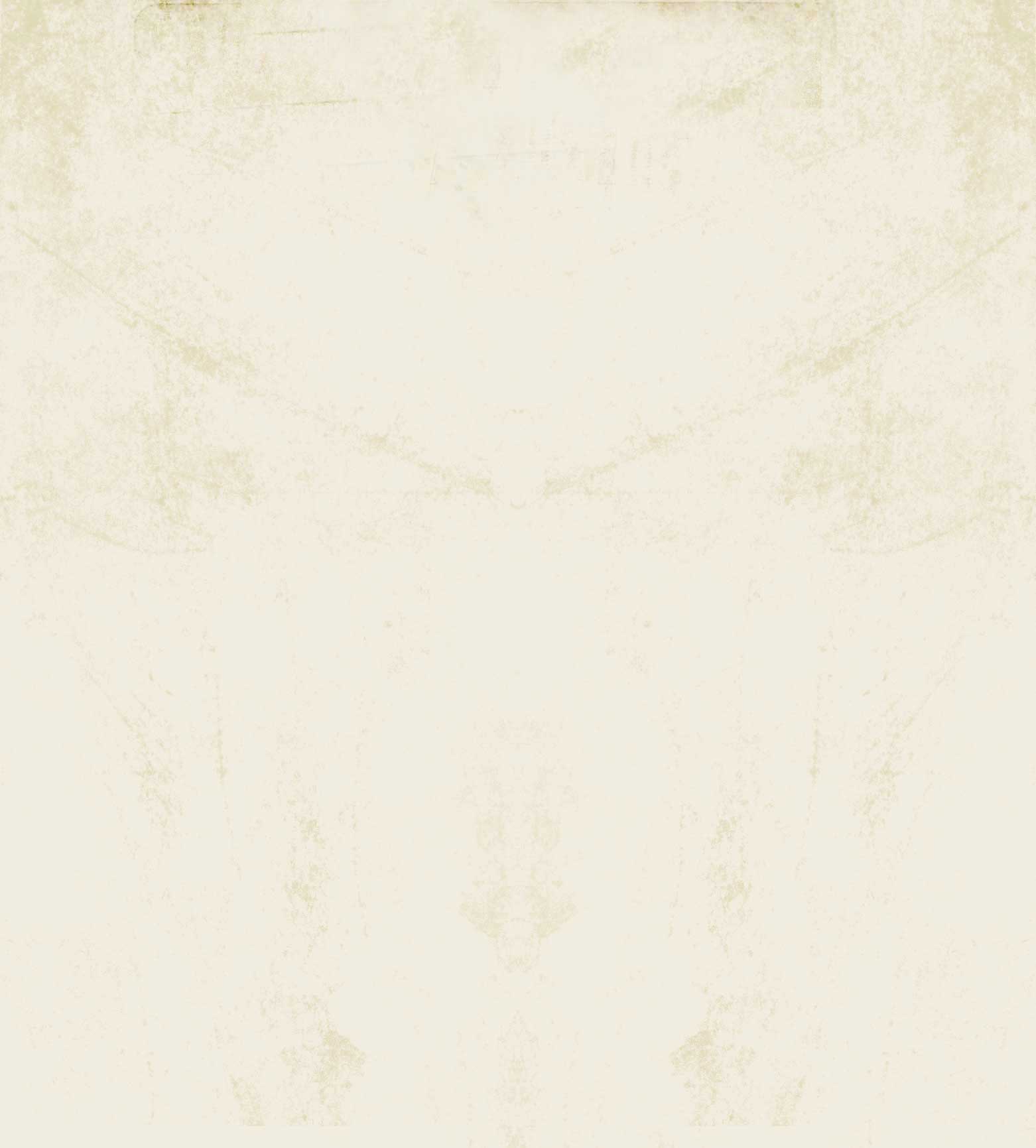




Интервью со священником общины Божией Матери «Всех скорбящих Радость» п. Мятлево игуменом Игнатием. К 20-летию православной общины в п. Мятлево.
- Отец Игнатий! Как к Вам теперь обращаться? Раньше Вы были настоятелем храма. Теперь у Вас тоже храм, но ведь это совсем не то, что было раньше?
- Конечно не то. Я не настоятель храма, я священник православной общины.
- А в чем разница?
- Настоятель – должность в официальной структуре. Священник в общине - служение. Мне изрядно надоели все эти бюрократические должности и титулы. У меня их было достаточно.
- В этом году православной общине Мятлево исполнилось 20 лет! Как Вы с прихожанами отметили эту дату?
- Как и положено – благодарением Богу и Пресвятой Богородице, в честь которой названа наша община. Совершили благодарственное богослужение. Потом – праздничная трапеза. Эта дата – повод подвести некоторые итоги, вспомнить прошлое, помянуть тех, кто уже покинул этот мир.
- Расскажите тем, кто не знает об этом. Как все начиналось?
- Для меня это началось в марте 1994-го года командировкой в Износки «на три недельки» - как это было мне сказано. Там произошло ЧП областного масштаба: священник сбежал, а приход ушел из Московской патриархии в так называемый «Суздальский раскол». Я был послан разгребать чужие завалы и возвращать общину в лоно патриархии.
- Которую позже покинули сами.
- Судьба не лишена иронии. Мне пришлось бороться с тем, что я впоследствии обрел для себя как истинную Церковь.
- Итак, с чего началось?
- Был в Калужской епархии священник, ныне покойный уже. Пил он здорово и его, по обычаю, в наказание сослали на периферию. В Износки. Там он запил еще круче, нахулиганил и сбежал. Местная пресса разразилась серией статей, а активисты прихода перешли под омофор Суздальского митрополита Валентина – тогдашнего лидера Российских приходов Зарубежной Церкви. Из Суздаля прислали священника, но он, увидев Износковские реалии, быстро ретировался, так что мне, к счастью, не пришлось с ним бороться.
В Износках все наладилось быстро, уже в апреле я оборудовал молитвенный дом и стал служить. И тут у Калужского церковного начальства возникло опасение, что «раскольники» переберутся в Мятлево. На самом деле там некому уже было куда-то перебираться, но у страха глаза велики. В итоге я получил задание ехать в Мятлево и «упредить» мнимые поползновения врагов. Мне тогда было 25 лет, и я взялся за дело с присущим этому возрасту задором. 11 мая 1994 года мы служили панихиду на кладбище в Мятлево. Потом провели собрание и учредили общину. Так началась новейшая Мятлевская церковная история.
- То есть Вы могли бы и не строить храм?
- Конечно, мог бы и не строить. Мне такой задачи даже никто и не ставил: вспомните ситуацию в стране в 1994-м году. Это была моя личная инициатива, точнее горячность.
- А в чем горячность?
- Начать строительство без гроша в кармане в те годы, когда все разваливалось – и в поселке и в стране, – все закрывалось – это не горячность даже, это безумие.
- Разве епархия не помогала в строительстве?
- Помогла один раз. В 1995-ом мы уже соорудили фундамент и запасли пиломатериал, когда епархия помогла средствами. Эти средства были эквивалентны по тем ценам 20-и кубометрам пиломатериала. Согласитесь, что этого маловато для строительства храма.
- И как Вы все это построили?
- Милостью Божией. Много хороших людей помогало в самом начале. Перечислю их, чтобы жители поселка знали своих героев: семья Баленко (Сергей Прокофьевич, Виктор и Александр), Денис Торопов, Игорь Молодцов, Игорь Ханов, Самвел Саркисян, Роман Попков, Виктор Киселев, Александр Воробьев и вся доблестная пожарная команда. Валера Новиков, Геннадий Гринько, Василий Кузнецов и многие другие. Материалами помогали «Русский лес», Анатолий Захаров, Вторчермет, Нефтебаза, Семен Пискарев. Ну и, конечно же, наши прихожане, бабушки, которые уже почили, а некоторые еще живы. Бабушки наши собирали средства по всему поселку.
- Закончив стройку, Вы таинственно исчезли из Мятлева.
- Да, я считал свою задачу выполненной. Я выпросился в Боровский монастырь и там прожил два года. Еще год прослужил в Калуге, потом снова был назначен в Мятлево.
- И снова началась стройка?
- Мы каждый год что-то пристраивали. Воскресную школу, трапезную, хозблок, кухню, жилые помещения на втором этаже (в три этапа), котельную, колокольню. Каждый год по коробочке.
Потом построили новый храм, провели газ, вставили окна и двери, произвели отделку (осталась шпаклевка и покраска). Электричество, отопление, водопровод, колодец, канализация…
- А вам Калужская епархия помогала?
- Была одноразовая помощь при строительстве воскресной школы в 2001-м году. Ее хватило на то, чтобы купить бетономешалку. Остальное делали и искали сами. В основном средства изыскивались через личные знакомства. Доход деревенского храма – чисто символическая сумма, на нее ничего не построишь. Епархия иногда освобождала от ежемесячных поборов – спасибо и на этом. От церковного начальства требуется только одно: не мешать. Это лучшая помощь.
- И как жила община после Вашего возвращения в 1999-м году?
- Развивалась, увеличивалась. Не скажу, что за счет жителей поселка. Большинство прихожан из местных определились сразу. Дальнейший рост прихода был из жителей довольно удаленных населенных пунктов, а потом и из Обнинска и более далеких мест.
- Что главное в жизни общины?
- Конечно, богослужение и Евхаристия. После того, как мы вернулись к каноническим нормам и правилам церковной жизни, это приобрело для нас новый смысл. Там, где представлялся потолок, оказалось Небо.
Община - не клуб по интересам, а форма богообщения. Если нет общей молитвы, Евхаристии, то общины не будет. Этого не заменишь никакими суррогатами вроде выставок с детскими стишками и плясками.
Во-вторых, конечно нужны занятия. Не учась христианству, стать христианином нельзя. Православный человек не может быть «овощем». Он должен знать свою веру.
- Я знаю, что у Вас проводились занятия каждое воскресенье с прихожанами.
- И проводятся, и будут проводиться. Без этого нельзя развиваться. Православие - это не только правильная молитва и Евхаристия, это и целый огромный информационный слой. В нем непросто разобраться. Еще сложнее отделить зерна от плевел, отделить собственно православие от подделок.
- Вы любите Мятлево? Что Вам нравится здесь?
- Люблю. Я уже давно стал мятлевцем и даже мятлевским патриотом. Нравится то, что здесь много хороших людей. По крайней мере, мне так кажется.
- И все же, что произошло с общиной в 2012 году?
- Она стала православной общиной в полном догматическом и каноническом смысле этого слова.
- А до этого?
- До этого она созревала, росла, эволюционировала, искала. Мы же не просто читали книжки и пили чай, мы искали ответы на разные вопросы. Мы изучали историю, догматы, жития Святых. Примерно с весны 2010 года я смог для себя сформулировать словесно то, что интуитивно чувствовал давно, и что гениально высказал в одной строчке Высоцкий: «нет, и в церкви все не так, все не так, ребята!».
Еще год ушел на то, чтобы понять, что это не в церкви «что-то не так», а что это я пока еще не в церкви. После осознания началась подготовка к исходу.
- Знакомое слово, откуда-то из Библии.
- Именно. Так называется центральное событие Библейской истории – выход народа Божия из Египетского плена.
- То есть Вы ушли как бы из плена?
- Образ исхода из плена Египетского – очень распространенный символ. В некотором смысле наша община прошла или проходит подобный путь. Нам, милостью Божией, удалость то, чему аналогов в церковной истории новой России почти нет: мы ушли, сохранив общину и не прервав богослужение.
- Это было так необходимо? Оставлять только что построенный храм, здания?
- Есть ценности важнее недвижимости. Мы хотели и хотим быть православными. Верить так, как верили Святые православной Церкви. Жить так, как предписывают канонические правила. Когда мы поняли, что в рамках РПЦ МП это невозможно, мы ушли.
- Но ведь не все прихожане ушли с общиной?
- Да, были, к сожалению, и отпавшие, по разным причинам. Судить мотивы человеческих поступков – не мое дело, и я не хочу никого судить и тем более осуждать. Рано или поздно Бог будет судьей каждого из нас, а Он знает о нас и то, что мы сами о себе не знаем. И тайные мотивы наших дел станут явными.
- Каков статус вашей общины сейчас?
- Если говорить юридическим языком, то у нас религиозное объединение – религиозная группа. Согласно закону она не нуждается ни в регистрации, ни даже в уведомлении о своей деятельности.
- А не в юридическом, чисто в церковно-каноническом плане?
- Нормальная православная община. В ней есть священник, это я, и диакон – о. Александр. Она находится под омофором (окормлением) православного епископа. Канонически все правильно. Мы за канонической стороной следим особенно внимательно.
- Вы чем-то занимаетесь кроме богослужений и занятий с прихожанами?
- Сначала скажу, чем мы категорически не занимаемся. Мы не устраиваем концерты, выставки и спектакли. Не водим в храме детские хороводы. Не бегаем жаловаться властям и силовым структурам на тех, в ком видим конкурентов…
Шумные компании по привозу икон и мощей – тоже не наш путь. Мощи святых у нас, конечно, есть, и не мало, но устраивать из поклонения святыне шоу, мы считаем кощунством. Знаете, сейчас модно стало возить мощи по храмам и объявления развешивать: этот святой исцеляет то-то, а эта блаженная помогает в том-то. В сущности, это язычество в христианской обертке. Мы никогда не будем заниматься ничем подобным.
Иногда мы проводим семинары по актуальным вопросам церковной жизни, в том числе с достаточно широким представительством. На недавнем семинаре с докладами присутствовали представители пяти церковных юрисдикций. То, что там обсуждается, реально интересно и актуально. Это востребовано и нашими прихожанами, и теми, кто потом читает и слушает это в Интернете.
- Но ведь прихожан стало меньше?
- Прихожан - не намного. Не стало «захожан». Это особая категория людей, которые ходят иногда в храм, но не относятся к общине. Теперь у нашей общины очень четкие границы.
- Вас не волнует отношение окружающих?
- Настоящая Церковь по природе – странница в этом мире. Иногда мир сей с ней заигрывает, но это редко и всегда опасно. А чаще Церковь живет в агрессивной среде. В лучшем случае ее не любят, в худшем – гонят. Положение изгоя и маргинала – это нормальное положение православного человека. «Если бы вы были от мира, мир бы любил свое» - сказал Господь о Своей Церкви. Так что искать любви и уважения в этом мире – совершенно антихристианская задача. Пусть этим занимаются другие.
- Не слишком ли радикально Ваши определения Церкви и христианства?
- Когда христианство только пришло в мир, его главный проповедник (в прошлом лютый гонитель) апостол Павел честно признался, что проповедь Христа для иудеев соблазн, а для язычников – безумие. Это не радикально звучит?
- Ходят слухи, что Вас «лишили сана» в Калужской епархии?
- Из организации, которая называется Калужская епархия, я уволился добровольно – по собственному желанию – и на момент увольнения не имел взысканий или претензий с ее стороны. Все, что я от нее получил, я оставил при уходе. После этого я не имел и не имею к ней никакого отношения.
Как может организация, из которой человек уволился и к которой больше никак не относится, чего-то его лишить?
Представьте: человек работал в банке. Уволился. И после этого ему присылают выговор…
Сан, который я сейчас имею, я получил уже после выхода из Калужской епархии. Меня никто его не лишал.
- В чем Вы видите смысл жизни общины?
- Во-первых – спасение каждого члена общины – вечное соединение с Богом, которое в православной традиции называется обОжением. Тут необходим и личный аскетический труд всех прихожан, и правильное богослужение, и совершенствование в вере и знаниях. Конечно, это – главное.
Во-вторых, церковь (я имею ввиду настоящую, истинную Христову Церковь) – это «соль земли». Так ее назвал Христос. Надо понимать, что это значит. Соль – это древнейший консервант, это то, что не дает земле – то есть этому миру – протухнуть окончательно. Церковь можно игнорировать, не замечать, гнать, оскорблять и бороться с ней, но, если она исчезает – мир обречен. Ее присутствие, даже совершенно никак внешне не отображающееся на жизни общества, сохраняет это общество от разложения. Мы можем не понимать этой закономерности, но она есть.
- Вы считаете, что Ваша община полезна жителям поселка уже самим фактом своего бытия?
- Я в этом твердо уверен.
- А как Вы относитесь к другому храму?
- Хорошо отношусь. В смысле я к нему совсем не отношусь, но отношусь хорошо. Я убежден, что в каждом относительно крупном населенном пункте должны быть школа, почта, клуб и храм (или костел) официальной церкви.
У нас с ними нет конкуренции, т.к. мы работаем на совершенно разные человеческие потребности.
- Это как?
- Ну, к примеру, дворник не видит конкурента в завхозе, а аптекарь - в сотруднике бюро ритуальных услуг.
- Последний вопрос: каким бы Вы хотели видеть страну и поселок в религиозном плане через двадцать лет?
- Я бы хотел через это время быть уже в Небесном Отечестве. А Россию я хотел бы видеть страной, в которой все религии равны перед законом и каждая является личным делом человека.
- У нас в Конституции это и сейчас есть.
- Так вот я и хочу, чтобы это было не только в Конституции. Это про страну. А в поселке я бы хотел, чтобы всегда была наша община. Чтобы она не зависела от спонсоров и покровителей, не была «обслугой» властей и олигархов. Чтобы блюла свою свободу во Христе и чистоту своей веры. Чтобы в ней все знали твердо православие и сами выбирали себе священников.
Беседовала Н.В. Петрова