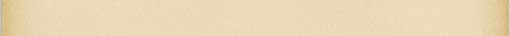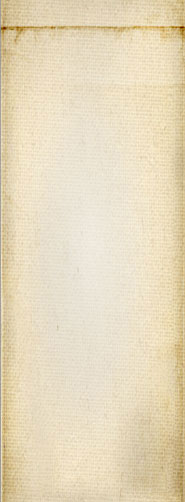Калужская епархия Истинно-Православной Церкви






Обычно — вполне справедливо — считается, что христианство подхватило от стоиков представление о пропасти, лежащей между человеком и животными. Если смотреть на христианство издали, то в этом невозможно усомниться. Если посмотреть вблизи, как мы сделаем в этой главе, то окажется, что и со стоиками христианству было не совсем по пути, и картина размажется. А если начать копать глубже, то христианское понимание отличия человека от животного станет окончательно непонятно — к чему мы и надеемся прийти в конце этой главы. Если мы не достигнем тут непонимания, то нам будет не прийти (в следующей главе) к новому пониманию.
Главная идея христианской антропологии: Бог в каждой душе
Но все же мы начнем с самого главного: с общего для всей восточной патристики учения о том, что в любой человеческой душе Бог присутствует реально, то есть, если можно так выразиться, самолично. Этого точно не может быть у животных. Констатировав это, самое главное, отличие, мы будем не так сильно рисковать запутаться во всем остальном.
Продолжим цитировать нашего главного автора, Григория Богослова, — с того места, на котором остановились в предыдущей главе. Он предлагает такое краткое описание души, предмета попечения науки о врачевании духовном[1]:
| А другая (наука) печется о душе, которая от Бога и божественна, которая причастна горнего благородства и к нему поспешает, хотя и сопряжена с худшим. | Τῇ δὲ περὶ ψυχὴν ἡ σπουδὴ, τὴν ἐκ Θεοῦ καὶ θείαν, καὶ τῆς ἄνωθεν εὐγενείας μετέχουσαν καὶ πρὸς ἐκείνην ἐπειγομένην, εἰ καὶ τῷ χείρονι συνεδέθη. |
Здесь, хотя и не только здесь, Григорий упоминает о том, что отличает понимание души в византийской патристике от всех других концепций души в поздней античности. Если совсем коротко, то это наличие в ней совершенно непосредственного присутствия христианского Бога. В прочих человеческих душах античности такого присутствия не было предусмотрено, как, впрочем, не было предусмотрено соответствующего Бога. Душа не просто «от Бога» (в конце концов, всё что сотворено — «от Бога» в том или ином смысле), но сама «божественна», «причастна» Богу (то есть Бог как-то в ней присутствует) и к нему стремится — причем, это тот самый Бог, о котором говорит Библия.
Для дохристианской еврейской мысли ставить вопрос не о самом богопознании, а лишь о природной способности человеческой души к богопознанию было вообще нехарактерно. Тем не менее, у Филона мы найдем такую постановку вопроса — однако, с совершенно иным ответом.
В произведении Кто наследник божественного? Филон аллегорически рассматривает обетование Аврааму. В духовном смысле наследниками Аврааму будут только духовно мудрые люди. В истории о жертвоприношении, через которое Бог должен был подтвердить свое обетование (Быт. 15, 8-21), Филон находит антропологическую символику. Авраам получает повеление растесать пополам трех крупных животных (телицу, козла и овна), но не растесывать двух птиц (голубицу и горлицу). Птицы указывают на отношения нашего ума к божественному[2]:
| Итак, сказав подобающее об этом, он прибавляет: птиц же не раздели (Быт. 15, 10), — назвав птицами крылатые и взлетающие два логоса, из которых один — превыше нас (пребывающий) архетип, а другой — подражание (первому), пребывающий в нас. Моисей же называет тот, что превыше нас, образом Божиим, а тот что в нас — оттиском образа. Ибо он говорит: сотвори Бог человека — не образ Божий, но — по образу (Быт. 1, 27). Таким образом, свойственный каждому из нас ум, который только и является человеком в собственном смысле слова и воистину, является третьим отпечатком по отношению к Создавшему, так что средний отпечаток является образцом (парадигмой) для него [т.е. третьего] и отображением того [первого]. | Εἰπὼν οὖν τὰ πρέποντα περὶ τούτων ἐπιλέγει· „τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλεν“, ὄρνεα καλῶν τοὺς πτηνοὺς καὶ πεφυκότας μετεωροπολεῖν δύο λόγους, ἕνα μὲν ἀρχέτυπον <τὸν> ὑπὲρ ἡμᾶς, ἕτερον δὲ μίμημα τὸν καθ’ ἡμᾶς ὑπάρχοντα. καλεῖ δὲ Μωυσῆς τὸν μὲν ὑπὲρ ἡμᾶς εἰκόνα θεοῦ, τὸν δὲ καθ’ ἡμᾶς τῆς εἰκόνος ἐκμαγεῖον. „ἐποίησε“ γάρ φησιν „ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον“ οὐχὶ εἰκόνα θεοῦ, ἀλλὰ „κατ’ εἰκόνα“· ὥστε τὸν καθ’ ἕκαστον ἡμῶν νοῦν, ὃς δὴ κυρίως καὶ πρὸς ἀλήθειαν ἄνθρωπός ἐστι, τρίτον εἶναι τύπον ἀπὸ τοῦ πεποιηκότος, τὸν δὲ μέσον παράδειγμα μὲν τούτου, ἀπεικόνισμα δὲ ἐκείνου. |
Тут человек даже не образ Божий, а лишь образ образа. Реальное присутствие Бога в человеке исключено. Тем не менее, в этом отрывке Филона узнаётся формальная схема будущего учения Григория Богослова и других Каппадокийцев, в котором образу Отца соответствует Сын (ср. Евр. 1:3: образ — χαρακτήρ — ипостаси Его), а образ Божий в человеке, будучи образом Логоса-Сына, является именно образом Бога, а не образом образа. Понятие образа Божия в человеке получало в патристике различные значения, но значение «логоса» Божия в человеке, который является образом Логоса-Сына, стало особенно важным для учения о обожении у Максима Исповедника. Мы вернемся к нему в конце этой главы.
В качестве философа Филон относился к школе среднего платонизма — платонизма, вобравшего очень многие идеи стоиков и поэтому часто выглядевшая как смесь платонизма и стоицизма. Именно эта школа, отчасти и через Филона, больше всех других философских школ влияла на раннее христианство. Основным богословским языком первоначального христианства был язык еврейской литургической мистики, на котором были написаны его священные книги (недаром главная тема евангелий — жертвоприношение Мессии, то есть литургия). Во II и ΙΙΙ веках создавался «перевод» христианского учения с этого языка на язык греческой философии, причем, греческая философия в эти века выступала, прежде всего, в виде среднего платонизма — грубо говоря, смеси старого платонизма с учениями стоиков.
Обратимся сначала к самым ранним свидетельствам об этом учении у христиан — у христианских апологетов II века Татиана и Юстина Философа.
Татиан (ок. 120–173) останавливается на нем подробно в своей речи К эллинам (вероятная датировка — между 165[3] и 172 годами), еще в период своего единства с Кафолической Церковью[4]:
| Душа сама по себе не бессмертна, мужи эллины, но
смертна. Впрочем, она может и не умирать. Душа, не знающая истины,
умирает и разрушается вместе с телом, а по скончании мiра она, наконец,
восстает вместе с телом, получая в наказание смерть в (самом)
бессмертии. Но если она претворена познанием Бога, то не умирает, хотя и
разрушается на время. <…>
Совершенный Бог бесплотен, а человек есть плоть. Душа есть связь плоти; а плоть есть вместилище души. Если таким образом составленный вид (существ) будет как бы храмом, то Бог благоволит обитать в нем через представительство Духа. Если же обиталище не таково, то человек будет превосходить животных только членораздельной речью, а во всем прочем образ жизни его будет такой же, как у них, и он не есть уже подобие Божие. |
(13.1) Οὐκ ἔστιν ἀθάνατος, ἄνδρες Ἕλληνες, ἡ ψυχὴ καθ’
ἑαυτήν, θνητὴ δέ· ἀλλὰ δυνατὸς ἡ αὐτὴ καὶ μὴ ἀποθνήσκειν. θνήσκει μὲν
γὰρ καὶ λύεται μετὰ τοῦ σώματος μὴ γινώσκουσα τὴν ἀλήθειαν, ἀνίσταται δὲ
εἰς ὕστερον ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ κόσμου σὺν τῷ σώματι θάνατον διὰ τιμωρίας
ἐν ἀθανασίᾳ λαμβάνουσα· πάλιν τε οὐ θνήσκει, κἂν πρὸς καιρὸν λυθῇ, τὴν
ἐπίγνωσιν τοῦ θεοῦ πεποιημένη. <…>
(15.2-3) ἄσαρκος μὲν οὖν ὁ τέλειος θεός, ἄν θρωπος δὲ σάρξ· δεσμὸς δὲ τῆς σαρκὸς ψυχή, σχετικὴ δὲ τῆς ψυχῆς ἡ σάρξ. τὸ δὲ τοιοῦτον τῆς συστάσεως εἶδος εἰ μὲν ὡς ναὸς εἴη, κατοικεῖν ἐν αὐτῷ θεὸς βούλεται διὰ τοῦ πρεσβεύοντος πνεύματος· τοιούτου δὲ μὴ ὄντος τοῦ σκηνώματος προὔχει τῶν θηρίων ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν ἔναρθρον φωνὴν μόνον, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς αὐτῆς ἐκείνοις διαίτης ἐστίν, οὐκ ὢν ὁμοίωσις τοῦ θεοῦ. |
Татиан касается здесь и отличия человека от животных. Главное отличие — это, разумеется, реальное присутствие Бога. Но есть и второе отличие — членораздельная речь. Как античность, так и современная наука отказывают животным в способности к чему-то вроде настоящего человеческого языка[5]. Из контекста, впрочем, понятно, что это отличие, скорее, не человека от животных вообще, а человека как особого рода животных от прочих животных. В животном мире тоже не все животные одинаковы. У человека как животного тоже должны быть отличия от прочих животных, но такие отличия еще не делают его человеком — то есть не ставят вне мира животных.
В этом отрывке Татиан развивает мысли своего старшего (лет на 20) современника — мученика Юстина Философа, которые тот изложил (около 155–160 гг.) в своем Диалоге с Трифоном Иудеем[6]. В начале Диалога Юстин описывает сцену своего обращения — из языческого философа в христианина. Оно происходит под влиянием разговора с незнакомым ему старцем. Старец остается неназванным, но сегодня мы можем с большой долей уверенности заключить, что это был Сам Христос, которого в раннем и даже средневековом христианстве часто изображали как «Ветхаго деньми» из пророческого видения Даниила (Дан. 7:9)[7].
Этот старец задает Юстину вопросы о том, можно ли человеку видеть Бога, и Юстин пытается отвечать с позиции философа-платоника. Но старец разбивает эту позицию тем утверждением, что видение Бога невозможно без откровения «божественного духа», и поэтому его не могли достигнуть ни платоники, ни пифагорейцы, ни другие философы, а достигали только пророки Израиля (главы 3-7)[8]. Старец начинает разговор в легко узнаваемой фразеологии платоников:
| – Какое же сродство, – спросил он, – имеем мы с Богом?
Разве и душа божественна и бессмертна и есть часть того царственного
Ума? Как он видит Бога, таким же образом и мы можем умом нашим постигать
божество и чрез то уже благоденствовать?
– Совершенно так, – сказал я. |
(4.2) – Τίς οὖν ἡμῖν, ἔλεγε, συγγένεια πρὸς τὸν θεόν
ἐστιν; ἢ καὶ ἡ ψυχὴ θεία καὶ ἀθάνατός ἐστι καὶ αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ
βασιλικοῦ νοῦ μέρος; ὡς δὲ ἐκεῖνος ὁρᾷ τὸν θεόν, οὕτω καὶ ἡμῖν ἐφικτὸν
τῷ ἡμετέρῳ νῷ συλλαβεῖν τὸ θεῖον καὶτοὐντεῦθεν ἤδη εὐδαιμονεῖν;
– Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην. |
Именование Бога «царственным умом» восходит к Платону (Филеб 30 d) и приобрело популярность в среднем платонизме, представителем которого отчасти был и Юстин, но определение человеческой души как «части» этого ума до сих пор приводит комментаторов в замешательство[9]. Однако, ближайшие параллели находятся также в среднем платонизме, где аналогичное учение существовало (причем, по всей видимости, получило развитие под воздействием стоиков, у которых тоже встречаются аналогии); разумеется, сами понятия Бога как в платонизме, так и в стоицизме радикально отличались и друг от друга, и от христианского представления, поэтому тут мы можем говорить лишь о формальном сходстве учений.
Ближайший к нашей цитате текст находится у Плутарха (ок. 46–120) в его Платонических вопросах.[10] В новейшее время Плутарха знают больше всего по историческому сочинению Параллельные жизнеописания, но в раннем христианстве его особенно ценили как философа (еще одного представителя среднего платонизма, подобно Филону и Юстину).
| Душа, причастившаяся уму и разуму и гармонии, есть не просто изделие Бога, но и часть (Его) — которая появилась не (в результате) Его (деятельности), но от Него и из Него (т.е. от Него как источника и из Него как его часть). | ἡ δὲ ψυχή, νοῦ μετασχοῦσα καὶ λογισμοῦ καὶ ἁρμονίας, οὐκ ἔργον ἐστὶ τοῦ θεοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ μέρος, οὐδ’ ὑπ’ αὐτοῦ ἀλλ’ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ γέγονεν. |
В устах платоника такое высказывание звучало не совсем обычно своей заостренностью и поэтической красотой (οὐδ’ ὑπ’ αὐτοῦ ἀλλ’ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ — «не Им, но от Него и из Него»), но все же не было особенно революционным. Между Богом платоников и душами людей не предполагалось пропасти. Аналогично такое высказывание могло восприниматься и в стоицизме, несмотря на совершенно иную концепцию Бога: главное, что и там не предполагалось пропасти между Богом и душами. Но в иудейской традиции пропасть между тварным и нетварным предполагалась, и, очевидно, по этой причине Филон не придерживался подобного учения. Юстин, однако же, его принял, причем, никак не давая понять, что это учение может быть для кого-то из христиан спорным. Гораздо больше похоже, что он следовал сформировавшейся традиции — и в таком случае истоки этой богословской традиции нам недоступны.
Дальше старец побуждает Юстина признать, что душам животных сродство с Богом не свойственно, и поэтому они не могут видеть Бога, а потом — признать и то, что человек, не имеющий добродетелей, не может видеть Бога, так как, по актуальному своему состоянию, он не особенно лучше животного. Тем не менее, заявленный в начале тезис о том, что залог боговидения находится уже в человеческой природе (а животные по своей природе его не имеют) — остается не опровергнутым. Пусть быть «частью царственного ума» не является достаточным условием для боговидения, но оно все же является условием необходимым и поэтому залогом боговидения для тех людей, которые к нему устремятся.
Мы можем вынести из этого обзора, что представление о природном пребывании Бога в человеческой душе появляется в христианстве в самый ранний период, если только оно не было унаследовано еще из какого-нибудь иудейского учения, нам неизвестного. Те христиане или еще иудеи, которые его приняли, заимствовали из среднего платонизма антропологическую идею, которую они перетолковали по-своему — применительно к своему пониманию Бога. Но их понимание Бога как совершенно разнородного с любым из Его творений, превратило идею платоников в парадоксальную: тварная душа является в самой своей основе нетварной.
Кратко сказав о самом главном в христианском понимании души — о наличии в ней прямого присутствия Бога, — мы можем теперь поговорить о самой «разумной душе» как понятии. На концептуализацию этого понятия в христианстве радикально повлиял Аристотель — или, по крайней мере, те взгляды, которые приписывались Аристотелю в поздней античности.
Аристотель говорит о душе, главным образом, в специальном трактате, который так и называется, — О душе. По Аристотелю, душа — это то, что отличает живое от неживого. Так как существуют три рода живого — растения, животные и люди, — то существуют три рода души, причем высший род предполагает наличие низших. «Питающая» (τὸ τρέφον, 416 b 22) душа характеризует растения, но свойственна также животным и человеку. «Ощущающая» («чувствующая»; αἰσθητικόν, 427 a 15) душа — только животным и человеку. Наконец, только человеку свойственна душа «разумная» (λογική; ср. 428 a 24[11]).
Это концепция Аристотеля пригодилась и христианству, но ее понадобилось основательно переделать, так что «словесная душа» в христианском понимании — это уже далеко не то, что можно было так назвать у Аристотеля и, следовательно, в светской философии, которая сохранялась в Византии на всем протяжении ее истории. Главное отличие аристотелевской «разумной души» от христианской — ее смертность. По Аристотелю, «разумная душа» умирает вместе с телом.
Переделка учения Аристотеля для нужд будущего христианства началась, разумеется, в дохристианском иудаизме. Опять читаем Филона[12]:
| Имеет же наш ум нечто соответствующее (аналогичное) неразумной душе, но, однако, способность к пониманию для ума специфична, и разумная (λογική) (способность) у него, может быть, общая с божественнейшими природами [т.е. ангелами], но между смертными специфична для человека. | ἔχει δὲ καὶ ὁ ἡμέτερος νοῦς ἀναλογοῦν τι ἀλόγου ψυχῇ. πάλιν ἡ διανοητικὴ δύναμις ἰδία τοῦ νοῦ ἐστι, καὶ ἡ λογικὴ κοινὴ μὲν τάχα καὶ τῶν θειοτέρων φύσεων, ἰδία δὲ ὡς ἐν θνητοῖς ἀνθρώπου· |
Филон Александрийский обсуждает сложное устройство нашего ума: в нем есть что-то специфическое только для человека, но что-то и общее с животными, а что-то общее с чем-то высшим — с ангелами — и даже прямо с Богом. Общее с животными — это «неразумные» части души, которыми тоже владеет ум (это вполне по Аристотелю). Способность к пониманию (διανοητική; этот термин хорошо передает церковнославянизм «разумевательная») — специфична для человека, и в этом Филон следует Аристотелю.
Мы увидим, однако, что некоторые христианские авторы будут радикальнее — даже и саму способность к пониманию относить к общему в человеке с животными, то есть считать ее таким отличием, которое, в лучшем случае, отличает человека как особый вид животных от других видов. По-настоящему радикальное отличие человека от животных совершенно вне физиологии: им является только особое присутствие божества.
Григорий Нисский определяет человека как «словесное (т.е. разумное) животное», выделяя как специфический для человека признак именно наличие разумной души[13]. Но разумная душа по Аристотелю не существует вообще без своего тела и умирает вместе с ним. Эта идея не настолько чужда христианству, как могло бы показаться, потому что и в христианстве тело рассматривается как необходимая природная принадлежность души. Но все-таки тело умирает, а душа нет.
Такая душа, которая не умирает вместе с телом, была у Платона и платоников, но платонистическая душа человека существовала прежде тела, а христианская душа человека до тела не существует (и в этом вновь согласие с Аристотелем).[14] Христианству пришлось отойти от Аристотеля в вопросе об отделимости души от тела, но согласиться с ним хотя бы в том, что такое состояние ненормально и обязательно будет исправлено (пусть и таким способом, от которого Аристотель бы содрогнулся) — воскресением тел. При телесном воскресении восстанавливается природный порядок, и душа окончательно и необратимо воссоединяется с телом. Аристотелевский принцип неотделимости души от тела в самом конечном итоге оказывается соблюден.
Учение о телесном воскресении в восточно-христианской традиции никогда не было прояснено настолько, чтобы установить характер соответствия тел, которые воскресли, тем телам, которые умерли[15]. Были отвергнуты только две крайние точки зрения — будто соответствие представляет собой абсолютную идентичность (такой точки зрения не придерживался никто, так как воскресшее тело больше не должно умирать, и изменение его свойств показал воскресший Иисус, согласно евангельским повествованиям), или будто соответствия нет вообще никакого (последняя точка зрения была осуждена в VI веке[16]).
Еще была, правда, осуждена точка зрения тех, кто считал, что воскресшие тела будут иметь форму шара. Мы так и не знаем, кто именно ее придерживался. Что это не были любители фастфуда с симптомами ожирения, видно из того, что сферические тела одновременно понимались как эфирные. Поэтому можно предполагать, что это были сторонники платоновского учения о совершенной форме — шарообразной, — в которой им хотелось видеть воскресшие тела.[17]
Само понятие идентичности является одним из наиболее дискуссионных и в современной философии, поэтому не будем удивляться, что восточнохристианская догматика старалась избегать его обсуждения всюду, где только могла себе это позволить. Ей все равно пришлось с ним намучаться по другим поводам[18], как мы это отчасти увидим уже в следующей главе.
В западной богословской традиции, особенно в схоластике, не видели проблемы в самом базовом логическом понятии идентичности и думали, что понимают, что такое идентичность, понимая ее по Аристотелю[19]. Поэтому там со спорами о состоянии воскресших тел дошло до того, что в 1270 году в Париже осудили двадцать тезисов Фомы Аквинского (1225–1274) — вероятно, в его присутствии, — но даже это не привело к водворению определенности — ни для современников, ни тем более для современных историков католических доктрин. Фома Аквинский считал воскресшие тела совершенно иными, нежели умершие; хотя для тела Иисуса он делал исключение, это не спасло его тезисы о воскресших телах от осуждения[20].
На востоке, как и на западе победила та точка зрения, что тело у каждой души — свое и одно-единственное. В земной жизни душе приходится трудиться над своим природным телом, и плод этих трудов она должна получить в воскресении.
Не претендуя на исчерпывающее объяснение, зачем человеку тело, Григорий Богослов приводит две главных причины: свобода души и ценность тела самого по себе. Продолжим его цитировать с того места, на котором остановились в начале этой главы[21]:
| (Это сопряжение с худшим) может быть, (произошло) и по
другим причинам, какие известны единому Богу, сопрягшему ее с телом, и
разве еще тому, кто самим Богом умудрен таковым тайнам, но насколько мы
знаем — я и подобные мне люди — для двух следующих целей.
Во-первых, чтобы душа могла наследовать горнюю славу за подвиг и за борьбу с дольним, и, будучи здесь искушена ими, как золото огнем, получила уповаемое в награду за добродетель, а не только как дар Божий. И конечно, в том – верх благости Божией, что добро сделано и нашей собственностью, не только всеяно в нас с естеством, но возделывается также нашим желанием и движениями свободы, преклонной на ту и другую сторону. Во-вторых, чтобы душа могла и худшее, постепенно отрешая от дебелости, привлекать к себе и возводить горе, чтобы она, став руководительницею для служебного вещества и обратив его в сослужебное Богу, была для тела тем же, чем Бог для души.
|
τάχα μὲν καὶ δι’ ἄλλας αἰτίας, ἃς μόνος οἶδεν ὁ συνδήσας Θεὸς, καὶ εἴ τις ἐκ Θεοῦ τὰ τοιαῦτα ἐσοφίσθη μυστήρια· ὅσον δ’ οὖν ἐμὲ γινώσκειν καὶ τοὺς κατ’ ἐμὲ, δυοῖν ἕνεκεν· ἑνὸς μὲν, ἵνα δι’ ἀγῶνος καὶ πάλης, τῆς πρὸς τὰ κάτω, τῆς ἄνω δόξης κληρονομήσειεν, ὥσπερ χρυσὸς πυρὶ, τοῖς τῇδε βασανισθεῖσα, καὶ ἀρετῆς ἆθλον, ἀλλὰ μὴ Θεοῦ δῶρον μόνον ἔχῃ τὰ ἐλπιζόμενα· καὶ τοῦτο δὲ ἦν ἄρα τῆς ἄκρας ἀγαθότητος, ποιῆσαι τὸ ἀγαθὸν καὶ ἡμέτερον, οὐ φύσει μόνον κατασπειρόμενον, ἀλλὰ καὶ προαιρέσει γεωργούμενον, καὶ τοῖς ἐπ’ ἄμφω τοῦ αὐτεξουσίου κινήμασιν· ἑτέρου δὲ ὡς ἂν καὶ τὸ χεῖρον ἑλκύσειε πρὸς ἑαυτὴν καὶ ἄνω θείη, λύσασα κατὰ μικρὸν τῆς παχύτητος· ἵν’, ὅπερ ἐστὶ Θεὸς ψυχῇ, τοῦτο ψυχὴ σώματι γένηται παιδαγωγήσασα δι’ ἑαυτῆς τὴν ὑπηρέτιν ὕλην, καὶ οἰκειώσασα Θεῷ τὸ ὁμόδουλον. |
Тело — это постоянная проблема для души: оно тянет ее вниз. Но зато у души появляется выбор, куда идти, и она может свободно выбирать добро. Но при этом тело ценно просто само по себе — и поэтому душа должна его оживотворять и освящать, как Бог саму душу. Тело — это сразу и полезный балласт для души, и драгоценный груз.
Душа без тела: ангелы
Душа, подобная человеческой, может и не иметь тела по природе, но такое существо будет называться ангелом. Григорий Нисский рассматривает «три состояния разумной природы» (в единственном числе, то есть речь идет о разновидностях одной и той же природы: τρεῖς τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσι καταστάσεις): «изначально получившее в удел бесплотную жизнь, каковое мы называем ангельским (ἐξ ἀρχῆς τὴν ἀσώματον λαχοῦσαι ζωὴν, ἣν ἀγγελικὴν ὀνομάζομεν)», «сопряженное с плотью, которое мы называем человеческим», и «посредством смерти отрешенное от плотского (ἡ δὲ διὰ θανάτου τῶν σαρκικῶν ἀπολελυμένη)»[22].
Ангелы не были предусмотрены в онтологии Аристотеля, но были не вовсе чужды платонизму (просто в платонизме все разумные существа считались как бы по природе ангелами, то есть бесплотными). Человек оказывается ровно в середине между двумя видами живых существ: имеющими только «неразумные» виды души (термин Аристотеля), и имеющими только разумную душу, но без «неразумных» видов души и самого тела. Такое учение мы встречаем уже у Филона, процитированного чуть выше.
Индивидуальность: неуничтожимая, но изменяющаяся
Но «разумная душа» Аристотеля имела еще один, существенный с точки зрения христианства, недостаток: она не была носителем индивидуальности. «Разумные души» у всех людей одинаковы, как одинаковы по своему устройству какие-нибудь органы тела. «Разумная душа» в смысле Аристотеля — это тоже, скорее, орган, нежели тот, кто органом пользуется.
Но в психологии Аристотеля появляется и носитель субъектности — именно тот, кто пользуется всеми органами души и тела. Он называет его «ум» (νοῦς) и, более специально, отличает его от «пассивного (πάσχων)» ума, связанного с материей.[23] Мышление, связанное с материей, не переживает свое тело, но тот ум, который действует через этот смертный «пассивный ум», сам по себе не связан с материей и бессмертен: «…Только (взятый) отдельно он (ум) является тем, что он есть, и только это — бессмертное и вечное (χωρισθεὶς δ’ ἐστὶ μόνον τοῦθ’ ὅπερ ἐστί, καὶ τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον)» (О душе III, 5; 430 a 22-23).
Что именно имел в виду Аристотель, когда вводил понятие активного ума, — предмет горячих споров между специалистами по Аристотелю, начиная, самое позднее, с Александра Афродисийского (II в. по Р.Х.) и далее вплоть до нашего времени. Во всяком случае, то учение об уме, которое изложено в соответствующем разделе трактата О душе (III, 4–8), не удается согласовать со всем остальным (отчасти изложенным выше) учением Аристотеля; гораздо легче оно согласовывалось бы с — отвергавшимся Аристотелем — учением Платона, а также с христианством (что некоторым скептикам подает повод думать, будто соответствующие мысли вообще не принадлежат Аристотелю)[24]. Но христианским авторам было, конечно же, безразлично, что там на самом деле имел в виду Аристотель, а было важно только то, как это можно использовать для собственных нужд.
В каком смысле Аристотель допускал бессмертие — это неясный вопрос, но, как сегодня обычно считается, он допускал его не в смысле сохранения человеческой индивидуальности, хотя христианское средневековье было, скорее, убеждено в обратном. Об отчуждаемости ума от тела Аристотель говорит так, что это можно истолковать и как допущение личного бессмертия. Понятно, что для христианских авторов вопрос о личном бессмертии был решен заранее.
По Аристотелю, «ум» является органом, принимающим осознанные решения. Но «разумная» часть души, ее логос, служит, приблизительно, тому же самому, и в этом смысле понятия ума и разума (логоса) у Аристотеля постоянно смешиваются. Но «активному» уму Аристотель приписывает отчуждаемость от тела и возможность чего-то похожего на бессмертие, а логосу он этого не приписывает (таким образом соотнося его, скорее, с пассивным умом).
Иоанн Филопон очень интересно поясняет это различие между двумя видами ума по Аристотелю: пассивный ум — это ум «потенциально» (δυνάμει), а активный — «актуально» (ἐνεργείᾳ), и это различие можно пояснить сравнением с маленьким ребенком, который имеет «потенциально» тот же самый ум, что взрослый имеет «актуально».[25] Мы не найдем ссылки на это учение у более поздних богословов (и не в последнюю очередь потому, что Филопон сумел настроить против себя представителей всех богословских направлений), но у всех у них увидим нечто сходное. А именно, ум, каков он дается от рождения, не является статичным, а старается следовать заложенному в нем движению — к Богу.
Вот и Григорий Богослов в нашей цитате (в начале этой главы) говорит, что душа не просто «причастна горнего благородства» (то есть аристократического рождения не в земном, а в небесном смысле), но и «к нему стремится» — очевидно, по природе. Это не что иное, как актуализация потенциала.
Мы не будем пытаться в точности соотнести эту мысль Григория и только что разобранное мнение (хорошо знавшего эти слова Григория) Иоанна Филопона.[26] Из этого обсуждения нам достаточно вынести следующее. Душа устроена так, что она не стоит на месте в своем отношении к Богу. Она стремится реализовать свое природное стремление к нему. Актуализируя эту свою потенцию, душа (ум) изменяется. Она остается идентичной самой себе, она не перестает существовать на время физической смерти[27], но она меняется — в результате либо приближения к Богу, либо удаления от него.
Само это стремление возникает в ней потому, что в нее уже изначально закладывается нечто божественное — вот это вопреки и Аристотелю, и даже Филопону, и даже, скорее всего, Тертуллиану (ок. 160–225), которому принадлежит знаменитое выражение о душе, что она «по природе христианка».[28] Все эти авторы могли бы, с большей или меньшей решительностью, подписаться под тезисом о природном стремлении души (ума) к Богу, но вот с признанием в душе человеческой от природы заложенного и вполне реального присутствия божества могла бы выйти загвоздка.
Ум и образ Божий
Понятие «ума» для христианских авторов оказывается самым главным во всей антропологии. Оно приобретает весьма значительные отличия от понятия разума (логоса), хотя всегда оставались контексты, где различать эти понятия не имело смысла. Обычно именно к уму относят понятие образа Божия, по которому был сотворен человек. В сочинениях Григория Богослова мы этого почти не увидим, так как он и вообще избегает термина «ум» применительно к человеку (но все же увидим[29]). Зато этого более чем достаточно у других авторов — начиная с Филона Александрийского и продолжая, если говорить о Каппадокийском кружке, Григорием Нисским.
Тут можно будет сказать, что христиане адаптировали то представление об «уме», которое развивалось в традиции платонизма, но надо сделать две оговорки — историческую и содержательную.
Исторически известно, что христианам не пришлось тут изобретать велосипед. Основные идеи уже были готовы в традиции эллинистического иудаизма — у Филона Александрийского.
Содержательно это иудео-христианское переосмысление платонистической концепции «ума» заключалось в привлечении к этой концепции Бога Авраама, Исаака и Иакова, а не «Бога философов». Иудео-христианский «ум» остался принадлежностью человека как индивидуума, но не совсем его личной собственностью. Одновременно ум — даже не собственность Бога, а Бог сам и непосредственно.
Мы не будем обсуждать подробно различные определения библейских терминов «образ» и «подобие» Божие в христианском богословии[30]. Достаточно сказать, что «образ Божий» обычно понимается как та самая данная человеку от рождения причастность Богу, о которой мы говорили выше. Приведем только одно из наиболее авторитетных определений патристики — из гл. 16 трактата Григория Нисского Об устроении человека, которая специально посвящена толкованию изречения Сотворим человека по образу и подобию Нашему (Быт. 1:26)[31]. В этом отрывке, как часто, хоть и не всегда бывало в патристике, термины «образ» и «подобие» выступают в качестве синонимов:
| Бог по природе Своей есть все то объемлемое мыслию благо, какое только есть вообще. А точнее сказать, будучи превыше всякого разумеваемого и постигаемого блага, Он творит человеческую жизнь не почему-нибудь другому, но только потому, что благ. А будучи таковым и из-за этого стремясь к созданию человеческой природы, Он показал силу Своей благости не наполовину — дав что-нибудь из присущего Ему, но завистливо отказав в причастии Себе. Напротив, совершенный вид благости состоит в том, чтобы привести человека из небытия в бытие и сделать его нескудным в благах. А поскольку велик подробный перечень благ, то его нелегко объять числом. Потому Слово гласом своим совокупно обозначило все это, говоря, что человек создан по образу Божию. Это ведь все равно что сказать, что человек сотворен по природе причастником всякого блага. Если Бог — полнота благ, а тот — Его образ, то образ в том и имеет подобие первообразу, чтобы быть исполненным всякого блага. Следовательно, в нас есть идея [т.е. прообраз, план] всяческой красоты, всякой добродетели и премудрости и всего, о чем полагается, что оно относится к самому лучшему. | Θεὸς τῇ ἑαυτοῦ φύσει πᾶν ὅτι περ ἔστι κατ’ ἔννοιαν λαβεῖν ἀγαθὸν, ἐκεῖνό ἐστι· μᾶλλον δὲ παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ νοουμένου τε καὶ καταλαμβανομένου ἐπέκεινα ὢν, οὐ δι’ ἄλλο τι κτίζει τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν, ἣ διὰ τὸ ἀγαθὸς εἶναι. Τοιοῦτος δὲ ὢν, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὴν δημιουργίαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὁρμήσας, οὐκ ἂν ἡμιτελῆ τὴν τῆς ἀγαθότητος ἐνεδείξατο δύναμιν, τὸ μέν τι δοὺς ἐκ τῶν προσόντων αὐτῷ, τοῦ δὲ φθονήσας τῆς μετουσίας· ἀλλὰ τὸ τέλειον τῆς ἀγαθότητος εἶδος ἐν τούτῳ ἐστὶν, ἐκ τοῦ καὶ παραγαγεῖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς γένεσιν, καὶ ἀνενδεῆ τῶν ἀγαθῶν ἀπεργάσασθαι. Ἐπεὶ δὲ πολὺς τῶν καθ’ ἕκαστον ἀγαθῶν ὁ κατάλογος, οὐ μὲν οὖν ἔστιν ἀριθμῷ ῥᾳδίως τοῦτον διαλαβεῖν. Διὰ τοῦτο περιληπτικῇ τῇ φωνῇ ἅπαντα συλλαβὼν ὁ λόγος ἐσήμανεν, ἐν τῷ εἰπεῖν, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γεγενῆσθαι τὸν ἄνθρωπον. Ἶσον γάρ ἐστι τοῦτο τῷ εἰπεῖν, ὅτι παντὸς ἀγαθοῦ μέτοχον τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐποίησεν. Εἰ γὰρ πλήρωμα μὲν ἀγαθῶν τὸ Θεῖον, ἐκείνου δὲ τοῦτο εἰκών· ἄρ’ ἐν τῷ πλῆρες εἶναι παντὸς ἀγαθοῦ, πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἡ εἰκὼν ἔχει τὴν ὁμοιότητα. Οὐκοῦν ἐστιν ἐν ἡμῖν παντὸς μὲν καλοῦ ἰδέα, πᾶσα δὲ ἀρετὴ καὶ σοφία, καὶ πᾶν ὅτιπέρ ἐστι πρὸς τὸ κρεῖττον νοούμενον. |
Чуть ниже Григорий дополнительно поясняет, что, говоря о образе Божием, он описывает «умное» начало в человеке, противостоящее началу плотскому, которое у человека общее с животными.
Понятие образа Божия оказывается поэтому идентичным тому, в чем отличие человека от всех прочих живых существ. Это не просто «разумность» души сама по себе, а ее непосредственная причастность Богу. Эта причастность должна возрастать, и в этом смысл аскетики и христианской жизни вообще. В патристике нередко встречается отождествление образа Божия с умом как главной частью души, но такое словоупотребление обычно метонимично — totum pro parte (называется целое вместо части).
Христиане научились от иудеев, а иудеи от стоиков?
После всего сказанного выше совершенно понятно, что во взглядах на животных христиане должны были следовать стоикам. Стоики создали самое последовательное учение о том, как радикально люди отличаются от животных. Это учение было популярно далеко за пределами их собственной философской школы.
Относительно животных особенно любили цитировать Хрисиппа (281/277–208/204 до Р.Х.), одного из первых стоиков и третьего главу школы. Ему принадлежат замечательные высказывания о животных как живых автоматах или даже мясных консервах: например, что в свинье душа — вместо соли, чтобы предохранить ее мясо от гниения; есть аналогичное высказывание и относительно рыб[32].
Эллинистический иудаизм в лице Филона Александрийского с удовольствием последовал за Хрисиппом (Филон сохранил для нас многие фрагменты его сочинений о животных). Главный труд Филона по этой теме был написан, как всегда, на греческом, но до нас дошел только в древнем переводе на армянский: О животных, в 100 главах. На протяжении всего труда Филон описывает разные способности животных, которым может позавидовать человек, но заканчивает всё выводом резким и однозначным (гл. 100)[33]:
| Поэтому до (уровня) человеческого рода превозносить (животное), и даровать достоинство недостойному — (ни с чем) несравнимая несправедливость. Наделять благородным разумением (σωφροσύνη?) не стоящее внимания и не выдающееся — это оскорблять тех, кто природою почтен преимуществом. | Քանզի մինչ ՛ի մարդկան ազգ հռչակելով և չանարդեանցն բաշխելով տալով, անհանգէտ անիրաւութեանց է, պարսաւել զայնոսի՝ որ նախանասնութեան ՛ի բնութենէն հասին, նազելի պարկեշտութիւն արկանել զանհոգալեօքն և զաներևութիւք: |
Ключевое выражение этого пассажа (նազելի պարկեշտութիւն) может быть переведено по-разному, так как эти армянские слова могли служить для перевода довольно разных греческих слов (мои предшественники видели тут указание на трезвость и воздержание[34]), но я думаю, что здесь речь о σωφροσύνη — «разумности», «целомудрии»[35], одной из наиболее ценившихся Филоном добродетелей, — а не просто о воздержании, которое животным как раз доступно, даже согласно воззрению стоиков.
Животные несоизмеримы с человеком, потому что человек разумен, а животные нет. — Казалось бы, все тут ясно: этот самый распространенный в греческой античности взгляд должен воспроизводиться и в патристике. Но в действительности всё было не так.
Мы уже прочитали у Татиана, что если человек не будет добродетельным и поэтому обиталищем божественного Духа, то он «…будет превосходить животных только членораздельной речью, а во всем прочем образ жизни его будет такой же, как у них, и он не есть уже подобие Божие». Тут получается, что человек, который ведет образ жизни животных и уже не подобие Божие — это не человек и, скорее, разновидность животного. Но теперь посмотрим на ту же границу между животным и человеком со стороны животного — оставаясь, впрочем, в пределах иудео-христианской традиции и ее священных текстов.
Сразу вспоминаются десятки (на самом деле их сотни) агиографических рассказов об особой дружбе святых с разными дикими животными[36]. Эти животные друзья святых ведут себя разумнее многих людей. Степень исторической достоверности подобных рассказов (кстати, она все-таки разная) для нас сейчас неважна, так как нас интересует только теоретическая приемлемость подобных историй для христиан.
Можно заметить, — и, прежде всего, из монашеской литературы, — что дискриминация животных как совершенно лишенных разума никогда не была свойственна христианству. Христиане легко бы подписались под тезисами Плутарха — главного античного авторитета в области защиты животных[37] — о том, что «природа животных не вполне непричастна разума и сознания» (...τῶν θηρίων φύσιν... λόγου καὶ συνέσεως οὐκ ἔστιν ἄμοιρος), и что животные отличаются друг от друга по степени причастности этим разуму и сознанию, и что при этом «знание Бога для них не является прирожденным» (...οἷς οὐκ ἐγγίνεται θεοῦ νόησις).[38] Но христиане бы согласились с Плутархом, исходя из своей собственной, еще иудейской традиции.
Для раннего христианства обладал высокой авторитетностью парафраз книги Бытия и начальных глав Исхода, созданный на еврейском языке во II в. до Р.Х., — Книга Юбилеев. Ее влияние ощущается в канонических евангелиях, ее цитируют многие христианские авторы первого тысячелетия, а в Эфиопской церкви она входит в канон Ветхого Завета. Только на эфиопском языке сохранился полный текст этой книги. Точность эфиопского перевода (хотя и сделанного уже с греческого перевода, ныне утраченного, с еврейского) подтвердилась находками многих фрагментов еврейского оригинала в Кумране. От греческого перевода до нас дошли фрагменты и пересказы у христианских авторов.
Книга Юбилеев (3:28) описывает перемену животного мира в день грехопадения Адама и Евы как аналог будущего вавилонского столпотворения — заимствуя из книги Бытия ключевое выражение[39]:
| И в этот день прекратили разговаривать уста всех зверей и скотов, и птиц, и (всего) движущегося и пресмыкающегося — а до этого все они говорили друг с другом единеми усты и языком единем (Быт. 11:1). | ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ ተፈጸመ ፡ አፈ ፡ ኵሉ ፡ አራዊት ፡ ወዘእንስሳ ፡ ወዘአዕዋፍ ፡ ወዘያንሶሱ ፡ ወዘይትሐወስ ፡ እምነቢብ ፡ እስመ ፡ ኵሎሙ ፡ ይትናገሩ ፡ ዝንቱ ፡ ምስለ ፡ ዝንቱ ፡ ከንፈረ ፡ አሐደ ፡ ወልሳነ ፡ አሐደ ። |
В книге Бытия то же самое сказано о роде человеческом — до той поры, пока не была построена вавилонская башня: И бе вся земля устне едине и глас [т.е. язык] един всем (χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία / שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים). Грехопадение людей стало причиной фундаментального разобщения людей с животными и животных друг с другом.
Именно в этом своем утверждении Книга Юбилеев представляла не только те еврейские секты, внутри которых будет формироваться христианство, но и вполне мейнстримный иудаизм своего времени. Ту же мысль мы встречаем и у Иосифа Флавия (37–ок. 100 по Р.Х.) в Иудейских древностях (I, 41), когда он объясняет, почему змий мог говорить с Евой на одном языке: «потому что в то время все живые существа [тут лучше перевести так, а не «животные», чтобы подчеркнуть, что речь идет также и о Еве] имели общий язык» (ὁμοφωνούντων δὲ κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ τῶν ζῴων ἁπάντων)[40] — очевидно, человеческий.
Двойное свидетельство Книги Юбилеев и Иосифа Флавия доказывает, что Филон Александрийский в своих представлениях о животных уклонился от общего богословского предания иудеев. Общепринятым и не вызывавшем особых споров представлением было, скорее, количественное, нежели качественное отличие животных от человека по критерию «разумности» души. Отсутствие у животных человеческого языка воспринималось в восточном христианстве (а отчасти и в западном, если смотреть за пределами августинизма) как контингентное свойство их природы — то есть аналогично тому (и в силу тех же самых обстоятельств), как смертность для природы человека: такой факт, который имеет место, но мог бы не быть — и даже не должен был быть.
«На свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога»[41]?
Из сказанного еще, однако, не следует, что сближение животного с человеком можно было производить до полной неразличимости. Попробуем проследить по источникам, до какой степени это еще было возможно, а до какой уже нет — где проходила «красная линия».
Еще один шаг в направлении от животного к человеку мы сможем произвести безболезненно: это ответ на вопрос, воспринимают ли животные проповедь Евангелия. Если понимать слишком буквально слова апостола Павла в Рим. 8:19-22 (…вся тварь с нами совоздыхает и сболезнует даже доныне и т.д.), то почему бы и нет?
Потому нет, — отвечает почти полный консенсус византийских отцов, — что апостол прибегает здесь к художественному приему, «олицетворению» (προσωποποιία, т.е. к одушевлению неодушевленного), а на самом деле никакой способности к упомянутым Павлом разумным действиям у неразумной природы нет. Впрочем, за бортом такого консенсуса остаются некоторые авторы, — но они, следуя Оригену и Григорию Нисскому, считали, что речь здесь у Павла идет и вовсе об ангелах[42].
На возможность совсем другого толкования Павла в его историческом контексте может намекать странное и до сих пор совершенно неизученное место из так называемого «славянского» Еноха, то есть 2 Еноха (произведение александрийского иудаизма, приблизительно, I в. по Р.Х.), 58:6, где, по буквальному смыслу, вообще никакая душа живая у Бога не погибнет, и души животных будут свидетельствовать относительно человека на Суде, — но пока что это место не поддается внятному истолкованию[43].
Но все-таки, коль скоро объективная заинтересованность животных в евангельском благовестии несомненна, то почему бы иногда и не попроповедовать им христианство? Франциск Ассизский и Антоний Падуанский были далеко не первыми, кому пришло в голову подобное рассуждение. В написанном, вероятно, в VI веке Мученичестве странствующего епископа Елевферия есть эпизод, где он проповедует диким зверям в чаще леса — львам, леопардам, диким оленям и другим, — а звери (агиограф нам объясняет, что по причине их неумения говорить) поднимают правые лапы и так прославляют Бога[44]. Конечно, за историческую достоверность этого эпизода церковное предание не ручается (а, с научной точки зрения, сама личность Елевферия должна быть признана выдуманной), но, повторим, нам важна лишь теоретическая допустимость, а не историческая достоверность.
Мы вряд ли найдем у кого-либо из отцов богословское обоснование проповеди животным, но, по крайней мере, отношение к подобной практике было вполне толерантным.
Но все же мы не отчаиваемся отыскать ту «красную линию», за которой толерантность к высоким оценкам разумности животных заканчивалась. Нам поможет агиографический документ, которым вдохновлялся автор Мученичества Елевферия, — Деяния апостола Филиппа, а именно, деяния с VIII по XIV, написанные где-то во второй половине IV века как отдельное произведение, и только позже, вместе с двумя другими произведениями, составившие сборник из пятнадцати деяний[45]. Ученые предполагают, что интересующее нас произведение было создано в какой-то относительно маргинальной группе христиан, но полезно помнить, что в ту эпоху маргинальными группами были все, кроме ариан (в период между 327 и 381 — господствующей христианской церкви Римской империи). Наши любимые авторы Григорий Богослов и Григорий Нисский вряд ли были менее маргинальными.
Наш документ (Деяния Филиппа с VIII по XIV) сохранился с большими пропусками — несмотря на то, что никакого конкурирующего агиографического документа в распоряжении византийцев не было. От наших Деяний нельзя было отказаться совсем (за неимением других), но ряд сцен оказалось невозможно принять — потому что они как раз и перешли ту самую «красную линию», которую мы ищем. Поэтому до нас дошли неполные редакции, часть содержания потеряна безвозвратно, а другая особенно важная для нас часть сохранилась лишь где-то в двух, а где-то в единственной рукописи.
В деяниях VIII и XII (а также, возможно, Х, от которого совсем ничего не сохранилось) развивается следующий сюжет. Услышав еще только о приближении апостола, обрели человеческий голос и обратились в христианскую веру козел и леопард (эта пара животных восходит к пророчеству Исаии: Ис. 11:6; в нашем рассказе леопард хотел съесть козла, но тот заговорил с ним человеческим голосом и обратил в веру, — после чего оба они оставят свою прежнюю пищу, свойственную животным, — даже вегетарианец-козел). Животные вступают в беседу с апостолом и потом всюду его сопровождают. Наконец (в деянии XII), леопард произносит по всем правилам риторики прекрасную богословскую речь, в которой убеждает Филиппа преподать им причастие[46]. Перед принятием причастия оба животных становятся прямоходящими и приобретают человекообразный облик (хотя, может быть, и не вполне человеческий)[47]. Сам момент причастия не показан, но причиной тут может быть неполнота текста, дошедшего для этого места лишь в единственной рукописи. Судя по ходу сюжета, оно должно было состояться.
Текст Деяний Филиппа VIII–XIV для нас весьма важен тем, что он не принадлежит к литературе «низовой» (народной) или, скажем так, средней (как Мученичество Елевферия), а является образцом не только возвышенной риторики, но и последовательного богословия. Это литература, несомненно, «высокого» регистра, пусть и в агиографическом жанре. Поэтому мы сможем здесь прочитать изложение оказавшихся неприемлемыми для христианской традиции идей, сделанное грамотным философским языком.
Эти идеи заключаются в следующем. Начав говорить и уверовав, животные меняют свою звериную природу (или естество: φύσις): отлагают «звериное и скотское естество» (τὴν θηριώδη φύσιν καὶ τὴν κτηνώδη) (VIII, 19, p. 270 etc.), так что их, — как выразился леопард в своей богословской речи, — «звериное естество изменилось и преложилось во благость» (ἠλλοιώθη μου ἡ θηριώδης φύσις καὶ μετεβλήθη εἰς ἀγαθότητα) (XII, 2, p. 301). В силу этого, как продолжает объяснять леопард, «мы оставили свою природу и стали как люди, и поистине Бог обитает в нас» (κατελίπομεν μὲν ἰδίαν φύσιν, καὶ γεγόναμεν ὡς ἄνθρωποι, καὶ ἀληθῶς ὁ θεὸς οἰκεῖ ἐν ἡμῖν) (ΧΙΙ, 4, p. 303). Получив непосредственное присутствие Бога, которое свойственно только людям, эти животные получили и «ум, сущий внутри всех помыслов и самого сердца» (ὁ νοῦς ὁ ὢν ἔνδοθεν πάντων τῶν λογισμῶν καὶ αὐτῆς τῆς καρδίας), который «вселился в нас (т.е. в них)» (ᾤκησεν μεθ’ ἡμῶν) (ΧΙΙ, 5, p. 305). Это все произошло еще прежде христианских таинств. Но приобщение Евхаристии нужно теперь для того, чтобы животным приобрести еще и человеческий образ (тут два термина используются: μορφή «форма» и σχῆμα «внешний вид»): как это сформулировано в молитве апостола Филиппа об исполнении их желания, «чтобы как Ты (Боже) изменил форму души этих животных, так Ты сотворил бы, чтобы они явились для самих себя с внешним видом человеческого тела» (ὥσπερ ἤλλαξας τὴν μορφὴν τῆς ψυχῆς τῶν ζῴων τούτων, οὕτως ποίησον φαίνεσθαι αὐτὰ ἑαυτοῖς πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ σώματος τῶν ἀνθρώπων) (XII, 7, p. 307).
Вот это смешение природ и оказалось неприемлемым. Относительно степени разумности разных животных не было и быть не могло никакого церковного учения, так как этот вопрос не касается веры. Если кто-то хотел считать их разумными — а в народных представлениях это обычно так и бывает, — то это не создавало поводов к спорам о вере и церковным разделениям. Но нельзя было приписывать животным возможность обрести то присутствие Божие, которое специфично только для человека, и которое часто обозначалось термином «ум» (νοῦς), а также термином «образ Божий». «Красная линия», которую мы искали, находится здесь.
Разумеется, человек без «ума» в смысле особенного божественного присутствия в нем должен был рассматриваться как животное. В патристике это так и происходило, причем, утверждения, наиболее строго сформулированные — с точки зрения философской антропологии, — прозвучали в христологии.
Бог воплотился в человека? Или все-таки в человеческое животное? — Такой вопрос был поставлен в связи с учением Аполлинария Лаодикийского (ок. 315–ок. 390), которое так и войдет в историю как одна из образцовых христологических ересей.
Процитируем относительно позднего автора, чья формулировка не только удобна своей лаконичностью, но и характеризует «хрестоматийность» ереси Аполлинария для византийской традиции, — Феодора Студита (759–826)[48]. Он упоминает ересь Ария, который (якобы) учил, будто Христос воплотился в человеческое тело без души[49], а потом ересь Аполлинария, будто Христос воплотился в человеческое тело с душою, но без «ума» (в том смысле, в каком «ум» отличается от «души»), и комментирует это так:
| Тот, кто допускает [будто Логос воплотился в] неодушевленное, лишает Господне тело жизни, ибо непричастное души, очевидно, также и вне жизни, а тот, кто (допускает) не имеющее ума, относит (его) к бессловесной [т.е. животной] сущности, потому что то, что не имеет ума, то и бессловесно. | Ὁ μὲν οὖν τῷ ἀψύχῳ προϊστάμενος, ἐξίστησι ζωῆς τὸ δεσποτικὸν σῶμα· τὸ γὰρ ἀμοιροῦν ψυχῆς, καὶ ζωῆς ἐστιν ἐκτὸς δηλονότι· ὁ δὲ τὸ ἄνουν, τῇ ἀλόγῳ συντάττει οὐσίᾳ· ἐπείπερ πᾶν ἄνουν, καὶ ἄλογον. |
Из самого противопоставления в этом отрывке «ума» и «души» мы можем понять, что «ум» тут относится именно к тому, в чем «образ Божий», а не просто интеллектуальные способности. Ведь отрицания у Иисуса человеческих интеллектуальных способностей никто Аполлинарию не приписывал. Тут речь о том, что даже высокоинтеллектуальный «человек», если он лишен «ума» как носителя образа Божия, — всё равно животное.
Чтобы окончательно убедиться в правильности нашего понимания Феодора Студита, обратимся к классическому (и, видимо, известному Феодору) тексту антиаполлинаристской полемики, — Антирритику против Аполлинария Григория Нисского[50], где обсуждается трактовка Аполлинарием слов апостола Павла бысть первый человек Адам в душу живу, последний Адам в Дух животворящ (1 Кор. 15:45). Все были согласны, что речь идет о сравнении Адама и Христа, но Аполлинарий толковал это в том смысле, что первый Адам был телом с душой, а второй, Христос, имел вместо души (в смысле «ума») «животворящий Дух», то есть Бога. Григорий Нисский толкует это изречение в том смысле, что Павел метонимически (pars pro toto) относит «Дух» ко Христу в целом, подобно тому, как «душа жива» — метонимическое определение первого Адама и человека вообще. Помимо напрашивающегося возражения Аполлинарию, что у него выходит, будто воплотился не только Сын, но еще и Дух, Григорий приводит антропологический аргумент:
| Разве ум, который он [Аполлинарий, используя терминологию Павла] называет духом, не был совложен Адаму при сотворении? Если так, то в чем же тогда у него подобие Богу? Что же такое истечение божественного дуновения (Быт. 2:7), если не верить, что это ум? | ἆρα ὁ νοῦς, ὅπερ ὀνομάζει πνεῦμα, οὐ συγκατεβλήθη τῷ κατὰ τὸν Ἀδὰμ πλάσματι ; οὐκοῦν ἐν τίνι αὐτῷ ἡ πρὸς τὸν θεὸν ὁμοιίτης ; τίς δὲ ἡ ἐκ τοῦ θείου ἐμφυσήματος ἀπορροή, εἰ μὴ ὁ νοῦς ταῦτα εἶναι πιστεύοιτο ; |
В этом сочинении Григорий Нисский разбирает тезис за тезисом подлинные тексты Аполлинария. Похоже, что в случае Христа Аполлинарий считал излишним еще дополнительное к Логосу божественное «дуновение», присущее каждому человеку. Для оппонентов Аполлинария это означало отрицание в Иисусе образа Божия и, таким образом, принадлежности к человечеству. Так что, видимо, Феодор Студит был прав, считая, что христология Аполлинария превращает Иисуса из человека в животное.
Мы даже можем заподозрить, что нечто подобное заявляли в свое время, по крайней мере, некоторые из последователей Аполлинария. От третьей четверти IV века до нас дошел — под именем Афанасия Александрийского, но ему не принадлежащий — полемический диалог с безымянным аполлинаристом[51]. Диалог, скорее всего, фиктивный — то есть это просто полемический трактат, которому автор придал форму диалога. В нем среди прочих, вполне естественных для аполлинаристов аргументов, высказывается один настолько резкий, что выдающийся историк христологии Алоиз Грилльмайер подозревал в нем полемический прием со стороны автора диалога, reductio ad absurdum[52]. Вот этот-то аргумент нам и нужен. Безотносительно к своей фиктивности или подлинности, он важен как свидетельство взглядов не Аполлинария, а его оппонентов.
Аполлинарист начинает с бесспорного утверждения — о том, как земное тело может быть либо человеческим, либо животным в зависимости от того, какую душу оно примет (это учение Аристотеля о душе как энтелехии материального тела: О душе, 412a27), а дальше переходит к выводу[53]:
| Если какое-либо из земных тел восприимет словесную (т.е. разумную) душу, то получится человек, а если бессловесную — то получится иное, нежели человек животное. Но когда Господь из этой же материи сам себе сотворяет тело и живит его своей собственной сущностью, — подобно тому, как обыкновенно бывает при создании обычного животного, имеющего душу, — то он, подавая свои собственные энергии, творит животное-Бога: Бога — по эйдосу (виду), а человека — по материи. | Τῶν γηΐνων σωμάτων ὅταν τι προσλάβῃ ψυχὴν λογικὴν, ἄνθρωπος γίνεται, ἐὰν δὲ ἄλογον ψυχὴν προσλάβῃ, ζῷον ἕτερον παρὰ τὸν ἄνθρωπον γίνεται. Ἐκ δὲ ταύτης τῆς ὕλης ὁ Κύριος ἑαυτῷ διαπλασάμενος σῶμα καὶ τοῦτο ζωώσας τῇ ἰδίᾳ οὐσίᾳ, ὅπερ πέφυκε μὲν ψυχὴν ἔχον κοινὸν ἀποτελεῖν ζῷον, τούτῳ δὲ καὶ τὰς ἰδίας ἐνεργείας μεταδεδωκὼς ἐποίει ζῷον Θεὸν, Θεὸν μὲν κατὰ τὸ εἶδος, ἄνθρωπον δὲ κατὰ τὴν ὕλην. |
Чуть ниже аполлинарист поясняет, что под «энергиями» Бога он подразумевал то же самое, что «(эйдос) вид». Тут опять Аристотель с его понятием о душе как «эйдосе (виде)» тела (О душе, 412a19-20). Но главное — это замечательное выражение «животное-Бог», ζῷον Θεόν[54]. Тут поневоле, вместе с Грилльмайером, начнешь подозревать оппонентов Аполлинария в использовании полемического приема reductio ad absurdum и даже технологии «черного пиара» (когда от имени оппонента делаются компрометирующие его высказывания).
Не будем чрезмерно грустить из-за того, что эти интригующие подробности богословской полемики конца IV века останутся от нас сокрытыми. Гораздо важнее, что наш документ подтверждает ту же точку зрения, которую мы уже встретили почти через 500 лет у Феодора Студита: если бы существовал такой Иисус, которого нам рисовало воображение Аполлинария, то это был бы не человек, а животное.
В действительности не только Иисус не был таким существом, но такого существа не могло быть в природе. Но мы посвятили этому существу столько времени, потом что оно окажется исключительно полезным для наших целей. Полезным даже не только в качестве идеальной, но невозможной в реальности модели, — каковы, например, идеальный газ или абсолютно здоровый психически человек, — но отчасти и как наш современник.
Иисус Аполлинария, хоть он и не существует, является нашим современником: это такой человек, каким его видят современные науки. Он обладает сознанием и интеллектом, но ему, как и животным, не свойственно неопосредованное и специфичное только для него присутствие Бога. Но этого и не требовалось от человека ни в большинстве античных теорий, ни в философских антропологиях нашего времени.
Такого присутствия Бога в человеке не предполагают даже те современные философские школы, которые защищают наличие в человеке души. Все эти школы, вслед за Декартом (и его предшественниками в западной, а не восточной христианской традиции[55]), связывают наличие души с наличием сознания, а вовсе не Бога. В то же время, в наличии сознания животным они отказывают: в учении о животных как биороботах Декарт (как, впрочем, его предшественники в схоластике) был наследником стоиков. Восточная патристика, напротив, не придавала сознанию никакого фундаментального для антропологии значения и без всякой ревности была готова им поделиться с животными.
Не столько курьезно, сколько симптоматично, что в период становления так называемой «парижской» богословской школы (вырабатывавшей версии православия, приближенные ко вкусам русской интеллигенции ХХ века), ее главный вдохновитель Сергий Булгаков в своем христологическом труде Агнец Божий (1933) посвятил много страниц реабилитации идей Аполлинария, которого он считал «непонятым» отцами Церкви и осужденным несправедливо[56].
С точки зрения восточной патристики, безразлично, кто более прав в современном споре «физикалистов» и «дуалистов» (вторые находят в человеческом сознании, а иногда и у высших животных какие-то представления, которые не имеют однозначной обусловленности физическими и химическими процессами, а первые это отрицают)[57]. В человеке по-настоящему важен — и по-настоящему отличает его от животных — совершенно иной дуализм: дуализм «человеческого животного» и Бога.
Для современной философии понятие человека, в отличие от понятия животного, часто связывается с понятием личности, которое было впервые введено в 1689 году Джоном Локком[58]. «Личность» предполагает сознание и самосознание. Мы поговорим об этом понятии в следующей главе, но сейчас лишь скажем заранее, что у самого автора определения личности, Локка, это понятие гипотетически распространялось на животных (вроде того разумного попугая, историю о котором он рассказывает перед тем, как это понятие определить): такие животные будут личностями, но не будут людьми; в то же время, многие люди, лишенные разума, не являются, согласно этому определению, личностями. В отличие от большинства современных философов, Локк не делал из понятия личности чего-либо специфического для человека, — и в этом он оставался близок к патристической традиции.
Если мы будем переводить восточнохристианскую антропологию и аскетику на язык современной науки, мы не должны будем удивляться, что наиболее интересными для нас окажутся те направления философии и психологии, которые имеют репутацию наиболее материалистических. Конечно, без молитвы и помощи Божией никакое дело в христианстве не только не делается, но даже не обсуждается и не может быть понято. Но при этом есть много ситуаций, где по одним только внешне наблюдаемым действиям врача невозможно понять, верующий он или нет. Это касается лечения не только каких-нибудь переломов костей, но и психиатрии. И напротив: различные теории, эксплицитно вводящие в психологию духовные и квазидуховные сущности, воспринимаются как двойное заблуждение: сразу и религиозное, и научное.
В человеке есть «ум» — носитель божества, причем, именно Бога Авраама, Исаака и Иакова, так как никакого другого божества не бывает. Его нельзя редуцировать не только к материальному, но и ни к чему другому, реальному или вымышленному: ни к «душе» в смысле картезианского дуализма, ни к «архетипам» К. Г. Юнга, ни чему-то еще.
Христианство охотно признаёт, что, за пределами «ума», человек является человеческим животным, пусть даже это животное разумно в том смысле, что имеет сознание. Область психиатрии и психотерапии — как и медицины вообще — лечение этого человеческого животного. Область аскетики, очевидно, — другая: она занимается человеком как человеком, носителем «ума». Но при этом и она постоянно занимается человеческим животным. Ведь «частица Божия» в человеке сама не нуждается ни в какой аскетической работе. То, над чем аскетическая работа возможна, — всё- таки тоже человеческое животное.
Наконец-то мы смогли по-настоящему запутаться. Человеческое животное не может заниматься аскетикой само. Оно может быть ее объектом, но никак не субъектом. Но Бог, живущий в человеке, не нуждается в аскетике и не может быть ее ни объектом, ни даже субъектом. Тогда что же такое «человек», который все-таки ею занимается, работая над своим человеческим животным?
Сейчас мы поищем ответа у Григория Богослова, но скажу заранее, что ответ будет такого сорта, что поможет нам лишь осознать трудность вопроса. В знаменитой проповеди О нищелюбии Григорий рассуждает, насколько нищими являемся мы все, но и насколько богатыми в единственном настоящем смысле этого слова также являемся мы все[59]:
| Что же за премудрость еже о мне? И что есть великое сие таинство? Или изволяется (Богу), чтобы мы, будучи частью Бога и свыше проистекши, не стали надмеваться и превозноситься своим достоинством и не презрели Создателя, чтобы мы в борьбе и битве с телом всегда взирали к Нему, и чтобы сопряженная нам немощь была детоводительницей (воспитательницей) того достоинства. | Τίς ἡ περὶ ἐμὲ σοφία; καὶ τί τὸ μέγα τοῦτο μυστήριον; Ἢ βούλεται μοῖραν ἡμᾶς ὄντας Θεοῦ, καὶ ἄνωθεν ῥεύσαντας, ἵνα μὴ διὰ τὴν ἀξίαν ἐπαιρόμενοι καὶ μετεωριζόμενοι καταφρονῶμεν τοῦ κτίσαντος, ἐν τῇ πρὸς τὸ σῶμα πάλῃ καὶ μάχῃ πρὸς αὐτὸν ἀεὶ βλέπειν, καὶ τὴν συνεζευγμένην ἀσθένειαν παιδαγωγίαν εἶναι τοῦ ἀξιώματος. |
Это высказывание противоречиво. По его буквальному смыслу, «мы» являемся свыше проистекшей «частью Бога»: что бы это ни значило, но это именно Бог. В то же время, «нам» свойственна немощь в борьбе с «телом», которая должна нас смирять и постепенно — «педагогически» — обучать. «Мы» этого высказывания, то есть его субъектность, намеренно осциллирует между Богом и носителем немощи, который должен прийти в соответствие своему божественному достоинству.
Это место у Григория Богослова относилось к числу «недоуменных» уже в древности. Поэтому только его разъяснению Максим Исповедник (580–662) посвящает довольно обширный трактат. Его объяснение показывает, что мы хорошо сделали, когда не стали торопиться перетолковывать Григория Богослова в каком-нибудь переносном смысле, чтобы убрать противоречие. Суть его объяснения в том, что здесь говорится о возвращении к Богу той «частицы Божества», которая находится в каждом человеке, — возвращении вместе со своим «носителем», то есть человеком.[60] Это и называется обожение, в этом цель человеческой жизни, хотя и не все ее достигают. «Частица Бога» доставляет человека к Богу, но действует не как ракета, а как ракетное топливо. Ракетой человек должен стать сам. Но мы пока всё не можем понять, а где у человека «он сам».
Кстати, а что бывает с теми, кто не достигает? Могут ли они удержать свою «частицу Бога» и не дать ей «вернуться»? Это вряд ли. Но тогда получается, что, утратив ее, они должны становиться животными, пусть и человеческими животными. Но такое решение опять не подходит, хотя, казалось бы, многое и многие говорят в его пользу. Даже Псалмопевец говорит, что человек вследствие грехопадения потерял подобие Божие, получив вместо него подобие скота: и человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им (Пс. 48:13, 21). Святые отцы развивают эту мысль не только в моральном, но и во вполне физическом смысле, считая, — как, например, Григорий Нисский, — что сам животный способ размножения достался человеку именно вследствие грехопадения и является частным случаем уподобления человека скотом несмысленным[61]. Но все же никто из отцов не предполагает, что человек, согрешая, может по-настоящему превратиться в животное.
У Клайва Льюиса в серии сказок про Нарнию (1950–1956), где разумными и способными согрешать оказываются не только люди, но, в частности, и особые говорящие животные, те из них, которые окончательно отказываются избирать благо, по приговору последнего суда теряют способность говорить и превращаются в животных обыкновенных[62]. Тут выражена та же самая интуиция — что человек, совсем отказавшийся от Бога, становится животным, но только само понятие животного определяется в соответствии с западными стандартами — как лишенное разума и способности говорить.
И у Псалмопевца, и у Клайва Льюиса очень важные христианские интуиции, но все-таки не ответ на наш очень формальный вопрос. Превратиться в животное по приговору суда из сказки про Нарнию — это значит уничтожиться, а не подвергнуться вечным мучениям. В новейшее время такие теории стали популярны в разных религиях, но вряд ли это могло иметь какое-либо отношение к Византии. Это не говоря о том, что невозможно подвергать вечным мучениям животное, которое и не согрешало. Субъектность того, кто имеет шанс подвергнуться вечным мучениям, остается пока такой же неясной, как и субъектность того, кто обоживается и совершает аскетические подвиги. Ясно, что это один и тот же, хотя неясно, кто.
Кто у «нас» «мы» или у «меня» «я»? На этом фундаментальном вопросе мы пока и остановимся.
[1] Григорий Богослов, Слово 2, 17; p. 112.
[2] Филон Александрийский, Кто наследник божественного?, 230–231; Leopoldus Cohn, Paulus Wendland, Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, vol. 3, Berlin: Reimer, 1898 [repr. Berlin: W. de Gruyter, 1962], 52.4-13.
[3] Точнее говоря, после упоминаемой Татианом мученической кончины Юстина Философа, которая датируется 165 годом в источнике VII века — Пасхальной хронике; из древних источников нам известно только то, что Юстин был казнен в Риме по приказанию префекта Юния Рустика, который занимал эту должность со 163 до 167 года.
[4] Miroslav Markovich, Tatiani Oratio ad Graecos. Theophili Antiocheni Ad Autolycum (Patristische Texte und Studien, 43/44) Berlin—New York: W. de Gruyter, 1995, pp. 31, 32–33; датировка произведения: ibid., pp. 2–3.
[5] Ср. Robert C. Berwick, Noam Chomsky, Why Only Us: Language and Evolution, Cambridge, MA—London: The MIT Press, 2016.
[6] Датировка по Мирославу Марковичу: Miroslav Markovich, Iustini Martyris Dialogus cum Tryphone (Patristische Texte und Studien, 47) Berlin—New York: W. de Gruyter, 1997 [repr. 2005], p. 1. Текст по: Philippe Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon. Édition critique, traduction, commentaire. 2 vols. (Paradosis, 47.1-2) Fribourg: Academic Press, 2003, vol. 1, p. 196; рус. пер. П. Преображенского (1862). Я благодарен пользователю Фейсбука «Стефану Странникову», который привлек мое внимание к этому месту у Юстина.
[7] См. убедительную работу Andrew Hofer, The Old Man as Christ in Justin’s Dialogue with Trypho, Vigiliae Christianae 57 (2003) 1-21.
[8] Текст по: Philippe Bobichon, Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon. Édition critique, traduction, commentaire. 2 vols. (Paradosis, 47.1-2) Fribourg: Academic Press, 2003, vol. 1, p. 196; рус. пер. П. Преображенского (1862) с изменениями. Я благодарен пользователю Фейсбука «Стефану Странникову», который привлек мое внимание к этому месту у Юстина.
[9] Ср. обзор и итоги дискуссии у Bobichon, Justin Martyr, Dialogue, vol. 2, p. 589 (note 17), который так формулирует свое собственное недоумение: « Si l’esprit humain est une partie de cet esprit souverain, dit le Vieillard, il doit être aussi divin. Mais comme cet esprit souverain “voit Dieu”, c’est qu’il en est distinct ».
[10] Platonicae quaestiones, II, 2 (1001 C); Harold Cherniss, Plutarch, Moralia. Vol. XIII, part I (Loeb Classical Library, 427) Cambridge, MA—London: Harvard University Press, 1976, pp. 32, 34. Ср. обзор близких высказываний (в том числе, стоиков) у John Whittaker, How to Define the Rational Soul? in: Carlos Lévy, avec la collaboration de Bernard Besnier, éd., Philon d’Alexandrie et le langage de la philosophie. Actes du colloque international organisé par le Centre d’études sur la philosophie hellénistique et romaine de l’Université de Paris XII-Val de Marne (Créteil, Fontenay, Paris, 26-28 octobre 1995) (Monothéismes et philosophie) Turnhout: Brepols, 1998, pp. 229–253, особ. 232–233, 243–246.
[11] В указанном месте трактата О душе доказывается, что у животных, в отличие от человека, не бывает «разума» (λόγος). Само выражение «разумная (словесная) душа» (ἡ λογικὴ ψυχή) по смыслу хорошо передает мысль Аристотеля, но, по-видимому, не встречалось или почти не встречалось в его оригинальных сочинениях. Оно появляется с ссылкой на Аристотеля в комментарии Симпликия (ок. 490–ок. 560) к сочинению О душе (написано между 533 и 538 гг.): Valentin Rose, Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, Leipzig: Teubner, 1886 [repr. 1967], 52 (fragm. I, 46).
[12] Филон Александрийский, Аллегории Закона, II, 23; Leopoldus Cohn, Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, vol. 1, Berlin: Reimer, 1896 [repr. Berlin: W. de Gruyter, 1962], 95.16-19.
[13] Григорий Нисский, Об устроении человека, 8; эта глава в особенности посвящена человеку как «животному словесному» (τὸ λογικὸν τοῦτο ζῶον ὁ ἄνθρωπος); о том, что эта душа включает растительную и животную, и при этом имеет нечто от ангельской, см. особ. PG 44, 145.
[14] Григорий Нисский посвящает особую главу трактата Об устроении человека опровержению мнений, будто души существуют раньше тел или тела раньше душ: гл. 28 «Против утверждающих, что души предсуществовали телам или, наоборот, что тела были созданы прежде душ. В ней же и опровержения баснотворства о переселении душ (метемпсихозе)»; PG 44, 229 B–233 C.
[15] Относительно раннехристианских и современных им, а также предшествовавших иудейских представлений см.: The Human Body in Death and Resurrection, ed. by Tobias Nicklas, Friedrich V. Reiterer, and Joseph Verheyden. In collaboration with Heike Braun (Deuterocanonical and Cognate Literature. Yearbook 2009) Berlin—New York: W. de Gruyter, 2009; Mark T. Finney, Resurrection, Hell and the Afterlife: Body and Soul in Antiquity, Judaism and Early Christianity (BibleWorld) New York—London: Routledge, 2016.
[16] Подробно см. Basil Lourié, John Philoponus on the Bodily Resurrection, Scrinium 9 (2013) 91–100; В. М. Лурье, Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону: физическое тело в пространстве и человеческое тело по воскресении, Εἶναι. Проблемы Философии и Теологии 1(1) (2012) 307–339. Моя трактовка этого вопроса в Лурье, История византийской философии, 145–148, является ошибочной. Историк философии не должен путать точку зрения Филопона с точкой зрения тех более ранних богословов (особенно гностиков), которые вообще отрицали воскресение тела (хотя историк богословия и особенно богослов-полемист вполне может себе позволить их намеренно перепутать). Дискуссионность точки зрения Филопона состояла не в отрицании телесного воскресения, а в таком понимании воскресшего тела, при котором оно ни по виду, ни по составляющим его элементам не было идентично телу умершему: оно предполагалось быть составленным вообще не из нашей обычной материи, а какой-то другой и нетленной.
[17] Константинопольский собор 536 года приписал такое мнение лично Оригену [ὅτι ἐν τῆι ἀναστάσει σφαιροειδῆ ἐγείρονται τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων (Eduardus Schwartz, Collectio Sabbaitica contra acephalos et origenistas destinata, insunt acta synodorum Constantinopolitanae et Hierosolymitanae a. 536 (Acta conciliorum oecumenicorum, 3) Berlin: W. de Gruyter, 1940 (repr. 1965), 204.11-12], но едва ли можно верить такой атрибуции, хотя и ясно, что в VI веке его разделяла какая-то часть тогдашних оригенистов; cр.: Antoine Guillaumont, Le ‘Képhalaia gnostica’ d’Évagre le Pontique et l’histoire de l’origénisme chez les Grecs et les Syriens (Patristica Sorbonensia, 3) Paris: Éditions du Seuil, 1963, 143–151. Пятый Вселенский собор (553 г., Константинополь) посвятил этому учению свой Х анафематизм: «Если кто скажет, что тело Господне по воскресении эфирное и шарообразное по виду, и что такие же суть тела (всех) остальных по воскресении <…>, да будет анафема» [Εἴ τις λέγει, ὡς τὸ τοῦ κυρίου ἐξ ἀναστάσεως σῶμα αἰθέριόν τε καὶ σφαιροειδὲς τῶι σχήματι καὶ ὅτι τὰ τοιαῦτα καὶ τὰ τῶν λοιπῶν ἐξ ἀναστάσεως ἔσται σώματα <…>, ἀνάθεμα ἔστω. Johannes Straub, Concilium universale Constantinopolitanum sub Iustiniano habitum, vol. I (Acta conciliorum oecumenicorum, 4.1) Berlin: W. de Gruyter, 1971, 249.20-23].
[18] Но особенно в христологии, что имело радикальные последствия также и для догмата о почитании икон: Basil Lourié, Theodore the Studites’s Christology Against Its Logical Background, Studia Humana 8 (2019), 99–113.
[19] Аристотель, Метафизика IV, 4, 1006 a 29-31: «Прежде всего, очевидно, что, по крайней мере, истинно то (утверждение), что слова ‘быть’ и ‘не быть’ значат нечто (конкретное), так что никакие (обстоятельства) не могут одновременно (обстоять сразу) так и не так (πρῶτον μὲν οὖν δῆλον ὡς τοῦτό γ’ αὐτὸ ἀληθές, ὅτι σημαίνει τὸ ὄνομα τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί, ὥστ’ οὐκ ἂν πᾶν οὕτως καὶ οὐχ οὕτως ἔχοι)». Специфически византийское богословие, — как можно догадаться, даже и не читав Дионисия Ареопагита, — по преимуществу занимается «обстоятельствами, которые обстоят сразу так и не так».
[20] Caroline Walker Bynum, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200–1336, New-York—Chichester: Columbia University Press, 1995, особ. 271–278. Византийские сторонники идеи отличия воскресших тел от умерших не делали исключения даже и для тела Иисуса; оно как раз доказывало, как им казалось, их правоту; см. Lourié, John Philoponus (и указанную там литературу).
[21] Григорий Богослов, Слово 2, 17; p. 112.
[22] Григорий Нисский, О душе и воскресении; Andreas Spira, Gregorii Nysseni De anima et resurrectione (Gregorii Nysseni Opera, III, 3) Leiden—Boston: Brill, 2014, 50.15-18. Сродство человеческой души с ангельской природой так или иначе упоминается почти всеми христианскими авторами, но, наверное, особенно значимым в истории христианского богословия рассмотрением этого стало произведение Григория Нисского О душе и воскресении, построенное как «интервью», которое автор берет у сестры Василия Великого (незадолго перед этим скончавшегося) и своей собственной — Макрины (ок. 330–379). Не оставившая своих собственных сочинений, она, несомненно, была четвертым (четвертой) в кружке «Каппадокийских отцов».
[23] Аристотель приписывает одному виду ума пассивность, а другому — производительность и активность, но сами термины «пассивный ум» и «активный ум» принадлежат не Аристотелю, а современным специалистам по Аристотелю.
[24] Привожу основную новейшую библиографию по учению Аристотеля об уме: Christopher Shields, Aristotle, De anima: Translated with an Introduction and Commentary (Clarendon Aristotle Series), Oxford: Clarendon Press, 2016, 312–329 (автор замечает о главке III, 5, что она “…has excited more exegetical controversy than any other in the Aristotelean corpus”, p. 312); см. также: John M. Rist, Notes on Aristotle De Anima 3.5, The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter, Nr 444, 12-29-1963; Essays on Aristotle’s De Anima, ed. by Amélie Oksenberg Rorty and Martha C. Nussbaum (Clarendon Aristotle Series), Oxford: Clarendon Press, 1995; John E. Sisko, On Separating the Intellect from the Body: Aristotle’s De Anima III.4, 429a10-b5, The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter, Nr 222, 3-1999; Lloyd P. Gerson, The Unity of Intellect in Aristotle’s “De Anima”, Phronesis 49 (2004) 348–373; Ronald Polansky, Aristotle’s De Anima, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 434–457;
[25] Michael Hayduck, Ioannis Philoponi In Aristotelis De anima libros commentaria (Commentaria in Aristotelem graeca, 15) Berolini: Reimer, 1897, особ. 519.18-23. Толкование всего этого раздела О душе у Филопона имеет целый ряд сложностей, если соотносить его с христианским учением, — так что до 1950-х годов ученые обычно считали, что Филопон написал этот комментарий, еще не будучи христианином. См. подробно: William Charlton, Philoponus: On Aristotle On the Intellect (de Anima 3.4-8) (Ancient Commentators on Aristotle) London: Blumsbury Publishing, 1991.
[26] Сложный вопрос о том, как Филопон понимал человеческий ум в «актуальном» смысле, очевидно, должен обсуждаться в связи с его специфическими представлениями о теле воскресения, то есть о совечном уму теле (ср. Lourié, John Philoponus on the Bodily Resurrection; Лурье, Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону). Здесь же наша задача будет состоять не в том, чтобы «понять Филопона», но в том, чтобы его «не понять» на тот же манер, что и думающие о своих собственных богословских проблемах и поэтому не очень внимательные читатели византийского времени.
[27] В раннем христианстве была популярна, хотя и не становясь общепринятой, идея «гипнопсихизма» (сна, или как бы временной смерти души в момент смерти тела — до пробуждения при воскресении); в течение IV–VI веков в Византии с ней боролись, но она продолжала жить где-то на обочине православной традиции и даже иногда в скрытой полемике с ней; см. особ.: Jean Gouillard, Léthargie des âmes et culte des saints: un plaidoyer inédit de Jean Diacre et Maïstôr, Traveaux et mémoires 8 (1981) 171–186. В сирийском христианстве такое мнение сохранилось на территории Сасанидского Ирана (позже — арабского Халифата) и даже стало нормативным у несториан. См.: Antigone Samellas, Death in the Eastern Mediterranean (50–600 A.D.) (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 12) Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, 55–57. В Новое время «гипнопсихизм» входит в моду во многих религиозных течениях Реформации и просто свободной религиозно-философской мысли; в частности, ему следуют находившиеся под влиянием социниан Ньютон и Гоббс.
[28] O testimonium animae naturaliter Christianae! «О свидетельство души, природно христианки!»; Тертуллиан, Апологетик, 17.6; cura et studio E. Dekkers в: Tertulliani Opera. Pars I (Corpus Christianorum. Series latina, 1) Turnholti: Brepols, 1954, p. 117; написано ок. 200 года. Чуть позже Тертуллиан продолжил свои рассуждения о естественно присущем душе знании Бога в особом произведении О свидетельстве души. Впрочем, у него нигде не встречается прямое утверждение, что Бог особым образом присутствует в душе непросредственно. Имя этого автора тут стоило упомянуть и в качестве одного из отцов-основателей латинской патристики (которая будет развиваться существенно иначе, чем современная ей византийская), и в качестве одного предшественника Декарта (самим Декартом, однако, не учтенного). Что касается биографии Тертуллиана и его отношений с современниками, то интенсивные исследования последних лет привели к тому, что теперь мы опять понимаем, как мало мы понимаем; см.: Geoffrey D. Dunn, Tertullian (The Early Church Fathers) London—New York: Routledge, 2004.
[29] Григорий Богослов все-таки называет образом Божиим в человеке ум, когда терминология оппонента (в данном случае, Аполлинария, утверждавшего, что во Христе место человеческого ума занял Логос, то есть Бог-Сын) не оставляет ему другого выхода [Стихотворения догматические, 10 (Против Аполлинария), строки 32-34; PG 37, 467 A]:
| Εἴ σοι τὸ χεῖρόν ἐστιν ἐκ Θεοῦ Θεὸς (Χεῖρον γὰρ ἡ σὰρξ τοῦ κατ’ εἰκόνα πολὺ), Κἀμοὶ τὸ κρεῖσσον· νοῦς γὰρ ἔγγιον Θεοῦ. |
Если у тебя худшее есть от Бога Бог (Потому что плоть намного хуже образа), То у меня — лучшее: ибо ум ближе к Богу. |
[30] Но все же дадим несколько особенно важных ссылок на научную классику: Henri Crouzel, Théologie de l’image de Dieu chez Origène (Théologie, 34) Paris: Éditions Aubier-Montaigne, 1956; Roger Leys, L’image de Dieu chez Saint Grégoire de Nysse. Esquisse d’une doctrine (Museum Lessianum – Section théologique No. 49) Bruxelles : Édition universelle ; Paris : Desclée de Brouwer, 1951. См. также мои примечания к переводу Григория Нисского Об устроении человека (особенно к гл. 16). Литература о понятиях образа и подобия Божиих хотя бы только в восточной патристике труднообозрима; обычно это труды, посвященные отдельным авторам, а также труды по истории аскетических учений.
[31] PG 44, 184 A-B.
[32] Соответственно, фрагменты 723 и 722 по изд.: Ioannes ab Arnim, Stoicorum veterum fragmenta. Vol. II: Chrysippi fragmenta logica et physica. Ed. Stereotypa editionis primae (MCMIII), Stutgardiae: In aedibus B. G. Teubneri, 1964, p. 206.
[33] Армянский текст (с латинским переводом, часто включающим неоговоренные пояснения переводчика): Jo. Baptista Aucher, Philonis Judaei Sermones tres hactenus inediti, Venetiis: Typus coenobii PP. Armenorum in insula S. Lazari, 1822, p. 172; репринтное переиздание перевода в монографии, содержащей также английский перевод: Abraham Terian, Philonis Alexandrini De Animalibus: The Armenian Text, Translation, and Commentary (Studies in Hellenistic Judaism. Supplements to Studia Philonica, Nr 1) Chico, CA : Scholars Press, 1981 (ср. р. 108).
[34] Aucher: egregiam sobrietatem («отличную трезвость» — т.е. терзвомыслие, самоконтроль); Terian: “serious self-restraint”.
[35] Такой эквивалент приводит для պարկեշտութիւն авторитетный словарь: Գ. Աւետիքեան, Խ. Սիւրմէլեան, Մ.Աւգերեան, Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի։ Հ. 1-2, Վենետիկ: ։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, 1836–1837, Հ. 2, էջ 636.
[36] Поскольку обзоры таких рассказов начали издаваться c 1616 года, сегодня уже накопилась заметная библиография. См., относительно старой библиографии, P[ierre] Saintyves [псевдоним Émile Nourry], Le thème des animaux sauvages domestiqués par les saints et sa signification allégorique, L’éthnographie, nouvelle série, Nos 28–29 (1934) 51–61. Из последних работ см. особо: Д. Бумажнов, «Все души животных обвинят человека на суде». Несколько наблюдений о животном мире в ранней христианской традиции (в печати).
[37] См. особо: Stephen T. Newmyer, Animals, Rights and Reason in Plutarch and Modern Ethics, New York and London: Routledge, 2006, особ. 10-47; idem, Speaking of Beasts: The Stoics and Plutarch on Animal Reason and the Modern Case against Animals, Quaderni Urbinati di Cultura Classica. N.s., 63 (1999) 99–110.
[38] Плутарх, Бессловесные животные пользуются разумом (Bruta animalia ratione uti), 992 CDE; Harold Cherniss, William C. Helmbold, Plutarch, Moralia. Vol. XII: 920 A – 999 B (Loeb Classical Library, 406) Cambridge, MA—London: Harvard University Press, 1957, p. 530.
[39] Текст: James C. VanderKam, The Book of Jubilees. A Critical Text (Corpus scriptorum christianorum orientalium, vol. 510; Scriptores aethiopici, t. 87) Lovanii: Peeters, 1989, p. 20; ср. р. 261 (сокращенный перевод этого стиха в сирийской хронике). Пересказ этого стиха в Хронографии византийского историка рубежа VIII и IX веков Георгия Синкелла, который ссылается также на Иосифа Флавия (мы его процитируем чуть ниже): Albert-Marie Denis, Fragmenta pseudepigraphorum quae supersunt graeca (Pseudepigrapha Veteris Testamenti gaece, 3), Leiden: Brill, 1970, p. 79; ср. ibid., p. 80, та же мысль, но с ссылкой только на Иосифа Флавия, у других византийских историков. Краткое обсуждение параллелей в примечаниях к переводу издателя: James C. VanderKam, The Book of Jubilees. Translation (Corpus scriptorum christianorum orientalium, vol. 511; Scriptores aethiopici, t. 88), Lovanii: Peeters, 1989, pp. 20–21. Ср. историко-богословский комментарий: James C. VanderKam, Jubilees 1: A Commentary on the Book of Jubiless 1–21 (Hermeneia), Minneapolis: Fortress Press, 2018, pp. 227–229.
[40] Benedictus Niese, Flavii Iosephi Opera, vol. I. Ed. secunda, Berolini: apud Weidmannos, 1955, p. 11.
[41] Велимир Хлебников, поэма «Зверинец» (1916).
[42] Из многочисленных авторов всего византийского периода процитирую Феодорита Кирского (ок. 393–ок. 460), Толкование на Послание к Римлянам, VIII, 21; PG 82, 137 B: Ταῦτα δὲ ἔφη, οὐ λογικὴν εἶναι λέγων τὴν ὁρωμένην κτίσιν, ἀλλὰ προσωποποιίᾳ χρησάμενος («Сказал же он, т.е. Павел, это, не утверждая, будто видимое творение разумно, но использовав олицетворение»). В целом по византийской экзегезе этого пассажа см.: Paul M. Blowers, Drama of the Divine Economy: Creator and Creation in Early Christian Theology and Piety (Oxford Early Christian Studies) Oxford: Oxford UP, 2012, pp. 212–224; при этом Ориген считал одушевленными и приравнивал к ангелам солнце и другие светила. Добавлю, что в VI веке эти высказывания Павла относит к ангелам Косма Индикоплов, византийский купец и путешественник (вероятно, несторианского вероисповедания), который строит на этом ряд космологических выводов, что доказывает популярность и авторитетность такого толкования в его время: Христианская топография, II, 96 et passim; Wanda Wolska-Conus, Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne, 3 tomes (Sources chrétiennes, 141, 159, 197) Paris: Cerf, 1968, 1970, 1973, t. I, pp. 414–417 etc.
[43] Славянский текст по всем рукописям 2 Еноха и по древнерусскому юридическому сборнику Мерило праведное (в котором цитируется, в том числе, это место): Grant Macaskill, The Slavonic Texts of 2 Enoch (Studia Iudaeoslavica, 6) Leiden—Boston: Brill, 2013, pp. 196–199, 260, соответственно; в неизданной фрагментарной коптской версии этого места нет. Вопреки многообещающему названию и даже наличию раздела, посвященного 2 Еноху, Harry A. Hahne, The Corruption and Redemption of Creation: Nature in Romans 8.19-22 and Jewish Apocalyptic Literature, London—New York: T&T Clark, 2006, совсем не касается этой проблемы.
[44] Издание древнейшей редакции Мученичества Елевферия: Pio Franchi de’ Cavalieri, I martiri di S. Teodoto I S. Ariadne, con un Appendice sul testo originale del Martirio di S. Eleuterio (Studi e testi, 6) Roma: Tipografia Vaticana, 1901, pp. 137–161; о его агиографическом досье (включая славянскую редакцию, которая в чем-то ближе к оригинальной редакции, чем дошедший греческий текст), а также о месте этой легенды в христианской агиографии, см. B. Lourié, Friday Veneration in Sixth- and Seventh-Century Christianity and Christian Legends about the Conversion of Nağrān, in: The Coming of the Comforter: When, Where, and to Whom? Studies on the Rise of Islam and Various Other Topics in Memory of John Wansbrough, ed. by Carlos A. Segovia and Basil Lourié (Orientalia Judaica Christiana, 3), Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2012), 131–230, passim.
[45] См. издание и исследование: François Bovon, Bertrand Bouvier, Frédéric Amsler, Acta Philippi. Textus (Corpus Christianorum. Series Apocryphorum, 11) Turnhout: Brepols; Frédéric Amsler, Acta Philippi. Commentarius (Corpus Christianorum. Series Apocryphorum, 12) Turnhout: Brepols, 1999.
[46] Как у этих животных обстояло дело с крещением, остается неясным. Согласно одному из предположений, оно могло быть описано в несохранившемся деянии Х. Мне, в отличие от комментаторов издания, кажется, что смысл крещения имел ритуал, описанный в деянии ХII, 8, когда Филипп окропил козла и леопарда водой из евхаристической чаши, после чего те стали приобретать человекообразный облик, необходимый им для причащения.
[47] Bovon et al., Acta Philippi. Textus, pp. 300–309; ср. комментарий: Amsler, Acta Philippi. Commentarius, pp. 358–370.
[48] Беседа 3 (В навечерие Светов, т.е. в канун праздника Богоявления), 6; PG 99, 705 C.
[49] Такое мнение начали приписывать Арию уже в конце IV века, хотя исторически Арий его не придерживался. Вероятнее всего, что в действительности такого мнения не придерживался никто, хотя на уровне вербальном подобные формулировки использовались Аполлинарием Лаодикийским на раннем этапе полемики; см.: Hanns Christof Brennecke, “Apollinaristischer Arianismus” oder “arianischer Apollinarismus” – Ein dogmengeschichtliches Konstrukt? “Arianische” Christologie und Apollinarius von Laodicea, in: Apollinarius und seine Folgen, hrsg. von Silke-Petra Bergjan, Benjamin Gleede,und Martin Heimgartner (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 93) Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, SS. 73–92.
[50] Fridericus Mueller, Gregorii Nysseni Opera dogmatica minora, pars I (Gregorii Nysseni Opera, III, 1) Leiden: Brill, 1958, p. 146.
[51] Это IV из так называемых пяти Диалогов о Троице псевдо-Афанасия. Они написаны разными людьми по разным поводом в относительно раннюю эпоху, а в один сборник были объединены только в средневизантийский период, около IX века. По датировке IV диалога см.: Alessandro Capone, Pseudo-Atanasio, Dialoghi IV e V sulla santa Trinità (testo greco con traduzione italiana, versione latina e armena) (Corpus scriptorum christianorum orientalium, vol. 634; Subsidia, t. 125) Lovanii: Peeters, 2011, pp. 6–10, 15.
[52] Alois Grillmeier, Gottmensch. Sprachfeld und theologiegeschichtliche Problementfaltung, in: idem, Fragmente zur Christologie. Studien zum altkirchlichen Christusbild, hrsg. von Theresia Hainthaler, Freiburg—Basel—Wien: Herder, 1997, SS. 215–263 [переработка статьи 1982 г.], здесь S. 250.
[53] Диалог IV, гл. 10; Capone, Pseudo-Atanasio, p. 88.
[54] Подлинность этого выражения в том смысле, что оно изначально принадлежит нашему тексту, а не появилось вследствие его порчи, дополнительно подтверждается древним армянским переводом (не позднее VII века): կենդանի Աստուած (Capone, Pseudo-Atanasio, p. 120); древний латинский перевод сохранился только частично, и для данного места его нет.
[55] См. относительно западной схоластической традиции: Theodor W. Köhler, Homo animal nobilissimum. Konturen des spezifisch Menschlichen in der naturphilosophischen Aristoteleskommentierung des dreizehnten Jahrhunderts (Studien und Texte zur Geistgeschichte des Mittelalters, 94) Leiden—Boston: Brill, 2008.
[56] К сожалению, из множества посвященных богословию С. Н. Булгакова работ мне неизвестна ни одна, автор которой обладал бы квалификацией патролога и мог бы поэтому оценить вес в его богословии учений Аполлинария (и Нестория — второго «столпа» его христологии). Сам факт, однако, для историков христианского богословия очевиден: ср. рецензию на недавний (2008) английский перевод Агнца Божия: Guy Mansini,[Review of] The Lamb of God by Sergius Bulgakov, The Thomist: A Speculative Quarterly Review 72 (2008) 677–680.
[57] См., как пример современной апологии картезианского дуализма с имплицитной религиозной обусловленностью: Richard Swinburne, Mind, Brain, and Free Will, Oxford: Oxford UP, 2013, pp. 141-174. Относительно полемики физикалистов и дуалистов см. особо: David J. Chalmers, The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (Philosophy of Mind Series), Oxford: Oxford UP, 1996; рус. пер. В. В. Васильева: Дэвид Чалмерс, Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории (Философия сознания), Москва: УРСС; Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. Книга вызывала и вызывает по сей день бурную дискуссию. См., в частности, J. R. Searle including exchanges with D. C. Dennett and D. J. Chalmers, The Mystery of Consciousness, New York, 1997; Keith Frankish, The Anti-Zombie Argument, Philosophical Quarterly, 57 (2007), pp. 650-666.
[58] John Locke, Опыт о человеческом познании, II, xxvii, 8-9; Peter H. Nidditch, The Clarendon Edition of the Works of John Locke: An Essay Concerning Human Understanding, Oxford: Clarendon Press, 1975, pp. 332–335.
[59] Беседа 14, 7; PG 35, 865 C.
[60] См. Максим Исповедник, Ambigua, 7; критического издания пока нет, но издание в PG 91 переиздано с комментариями и англ. пер. в: Maximos the Confessor, On Difficulties in the Church Fathers. The Ambigua. Ed. and Translated by N. Constas. (Dumbarton Oaks Medieval Library), 2 vols. Cambridge, MA—London, 2014, vol. 1, pp. 74/75–140/141 (txt/tr.). Ср. J.-Cl. Larchet, La divinisation de l’homme selon saint Maxime le Confesseur (Cogitatio fidei, 194), Paris, 1996.
[61] Григорий Нисский, Об устроении человека, главы 17-18, особ. PG 44, 189 D–192 A-D.
[62] Gilbert Meilaender, On moral knowledge, in: The Cambridge Companion to C. S. Lewis, ed. by Robert MacSwain and Michael Ward, Cambrdige: Cambridge UP, 2010, pp. 119–131, особ. р. 119. В целом о взглядах Льюса на животных см.: Andrew Linzey, C. S. Lewis’s Theology of Animals, in: Strangers to Nature: Animal Lives and Human Ethics, ed. by Gregory R. Smulewicz-Zucker (Logos: Perspectives on Modern Society and Culture) Lanham: Lexington Books, 2012, pp. 89–107 [впервые опубликовано в 1998].