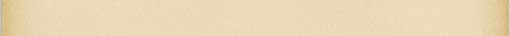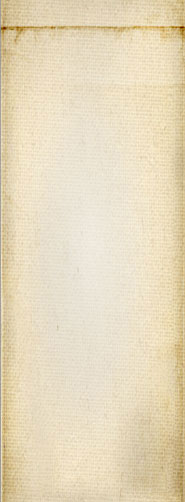Калужская епархия Истинно-Православной Церкви






1. Принцип антропологической неопределенности
1.1 О чем пойдет речь
Предыдущая глава подвела нас к тому, чтобы вступить на самую зыбкую почву из всех возможных — обсуждение того, что значит «я», и прочих проблем идентичности. Хотя бы слабого знакомства все равно, с чем именно — с историей догматических споров в христианстве или с обсуждением проблем идентичности как таковой или идентичности человека в философии — будет достаточно, чтобы ощутить, насколько в этих вопросах человечество далеко от консенсуса. В ХХ веке в философской антропологии и психологии произошли не менее масштабные тектонические сдвиги, чем в физике, — так что и тут от самодовольного позитивизма XIX века осталась лишь кое-где не осевшая пыль. Только благодаря этим сдвигам у современных философской антропологии и психологии появились общие темы для обсуждения с византийскими Отцами.
Конечно, мы уже сильно упростили себе задачу, решив оставаться строго в пределах «мейнстримной» византийской традиции. Но эта традиция не так уж проста даже в отношении христологии, где все формулировки старались прояснить и согласовать, насколько это вообще в человеческих силах. В «чистой» (то есть отдельной от христологии) антропологии, учении о человеке, к подобной догматической однозначности никто и не стремился, так как подробности учения о человеке — это уже вне рамок догматики. Но для нас они очень важны, так как они стали основой интересующих нас аскетических учений. И тут, за счет аскетической практики, все-таки формировался некоторый консенсус и относительно теории. Нам предстоит его эксплицировать.
Основной проблемой этой главы станет различение того, что на языке современной философии можно назвать «метафизическим Я» и «психологическим Я». В современной философии нет даже подобия консенсуса по этому поводу, и весьма распространена точка зрения, что «метафизического Я» вовсе не существует. На языке христианского богословия речь пойдет о различении «Я» как субъекта моей свободной воли, а, следовательно, спасения или погибели, — и «Я» как… Тут пока не получается завершить предложение, так как в византийском предании для этого понятия нет готового термина. Но само понятие есть, и чтобы его описать, нам и понадобится эта глава.
В этой главе будет многовато богословия. Но это лишь потому, что придется говорить о таких вещах, на которые сами историки богословия смотрят мало, и потому не существует готовых исследований, на которые можно было бы просто сослаться. Тема отношений человека с Богом прямо связана в христианстве с темой человеческого внутреннего мира Христа (не буду называть его не особенно подходящим термином «психология»), и нельзя обсуждать первое без второго. Поэтому сейчас будет довольно много христологии — но малоизвестной.
Начнем с самого очевидного, оно же самое главное. Вот аскетический текст, который никогда не вызывал трудностей понимания у целевой аудитории, то есть тех, кто сам практиковал нечто подобное. Но для философской антропологии, даже святоотеческой, он окажется труден.
Двенадцать отцов-подвижников, как повествует о них египетский рассказ IV или V века, делятся друг с другом своими «ноу-хау» в деле подвижничества. Первый и самый старший говорит, среди прочего[1]:
| …так я считаю лукавые вожделения змиями и порождениями ехидновыми (Мф. 23:33). Когда же я почувствую в сердце моем, что они зарождаются, я внимаю им угрожающе и иссушаю их. И я никогда не перестаю гневаться на тело мое и душу, чтобы не сделали они чего-либо худого. | ...0ὕτω δὲ ἔχω τὰς πονηρὰς ἐπιθυμίας ὡς ὄφεις καὶ γεννήματα τῶν ἐχιδνῶν. Ὅταν δὲ αἰσθάνωμαι ἐν τῇ καρδίᾳ μου φυομένας ταύτας, προσέχω αὐταῖς μετὰ ἀπειλῆς καὶ ξηραίνω αὐτάς· καὶ οὐκ ἐπαυσάμην ποτὲ ὀργιζόμενος τῷ σώματί μου καὶ τῇ ψυχῇ, ἵνα μηδὲν φαῦλον ποιήσωσιν. |
Из хода дальнейшего обсуждения можно понять, что старец описывает практику почтенную, но не оптимальную, а для новоначальных и вовсе недоступную. Но нам сейчас важное другое: что это за «Я», от имени которого старец говорит? Ведь это и не тело, и не душа, так как за тем и другим это «Я» наблюдает. Это даже не источник мыслей, за зарождением которых оно тоже только лишь наблюдает. Примечательно, что тут нет речи о мыслях, вкладываемых в сердце человека извне — бесами, — а упомянуто только о помыслах, «зарождающихся» в сердце. Но даже и эти помыслы исходят не из этого самого «Я».
Пожалуй, это «Я», которое с нами тут говорит, — субъект человеческой деятельности в целом, но это не субъект всех ощущений и мыслей. Выходит, что «мыслить» — то есть, например, порождать «лукавые вожделения» — можно и без участия такого «Я». Мы знаем, что «лукавые вожделения», о которых тут речь, это разновидность «помыслов» (λογισμοί). Из сказанного очевидно, что они порождаются душой и телом совместно: это даже подчеркнуто уточнением «в сердце» (ср. Мф. 15:19: от сердца бо исходят помышления злая; ср. Мк. 7:21). Душа, сопряженная с телом, и является их субъектом, — то есть тем, кто помышляет «помыслы».
Некоторые сведения из предыдущей главы и особенно разобранная там цитата из Максима Исповедника (раздел 2.5) должны были подготовить нас к такому выводу: с телом сопряжена некая рациональная способность, которая порождает «помыслы», но которая не является «умом» в точном смысле этого слова — то есть частью души, обращенной к Богу.
Принципы «внимания» (προσοχή), или и «трезвения» (νῆψις) (в нашей монашеской литературе это синонимы), из которых исходит наш анонимный монашеский автор, относятся к основам основ аскетики, и поэтому хорошо известны и, с недавних пор, описаны даже в современной научной литературе с психологической точки зрения[2]. Они всегда предполагают, что их будет применять некое «Я», которое рассматривает разного рода помыслы, принимает их или отвергает — тем самым влияя на процесс их формирования в дальнейшем, — но не «помышляет» их само. Все монашеские поучения адресованы к этому «Я», а не напрямую к субъектам «помыслов». Привычка отделять «себя самого» от субъекта своих помыслов — это первое требование аскетики, без выполнения которого в традиционной православной аскетике просто нечего делать. Разумеется, люди современного воспитания — привыкшие считать, что свои помыслы помышляет «я сам», — при обучении православной аскетике бывают должны приложить определенные усилия: им нужно вывернуть наизнанку свои представления о «внутреннем» и о «внешнем».
На этом фоне мы можем лучше понять и Аполлинария: если его Иисус был человеческим животным, то, вопреки некоторым полемистам (Григорию Нисскому или Григорию Богослову), это еще не означает, что способности мыслить этого существа были такими же, как у лошади или собаки[3]. Его способности мыслить должны были соответствовать животному-человеку, а не животному-лошади. Чего у него не должно было быть, так это только того «Я», которое могло бы обучаться вниманию и трезвению.
1.3. Почему так трудно обсуждать ум
Святоотеческий консенсус против Аполлинария требовал утверждения полноценности во Христе человеческого ума — не исключая той его главной части, которая обращена не к телу, а к Богу. За таким требованием стояла очень ясная богословская мысль. Ее ставшая самой знаменитой формулировка была дана Григорием Богословом: «Ибо то, что не воспринято (Богом) — то не уврачевано, а то, что соединяется с Богом, то и спасается» (Τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον, ἀθεράπευτον· ὃ δὲ ἥνωται τῷ θεῷ, τοῦτο καὶ σώζεται)[4]. Но эта мысль принадлежала к числу тех, что легче сформулировать, чем объяснить.
Попытки объяснения этой мысли наталкивались на двоякое сопротивление — чисто логическое и чисто богословское, — причем, обе силы сопротивления усиливали друг друга, приходя в резонанс.
Конечно, самым главным и самым сильным было богословское сопротивление. Разговор о христологии не может избежать вопроса о цели боговоплощения — ведь все соглашались, что если вообще Бог воплотился, то он сделал это так, как соответствовало его замыслу о человеке: спасение — это то самое состояние человека, ради которого он был изначально создан. Поэтому вопрос о христологии — это всегда также и вопрос о смысле человеческой жизни и жизни человека вообще. На языке нашей современной культуры можно сказать, что это вопрос о ценностях — главных ценностях нашей человеческой жизни. Очевидно, не все его решают для себя одинаково, и еще более очевидно, что христианское решение — одновременно аскетическое и, по-человечески судя, неправдоподобное — не подходит большинству. Это создает естественную предпосылку для богословского сопротивления учению Григория Богослова — а также его предшественников, соратников и последователей — о спасении как обожении. Обожении в самом буквальном смысле: насколько Бог стал человеком, настолько человек должен в нем стать Богом. Реальность воплощения Логоса идентична реальности обожения спасаемых: совершенным должно быть и то и другое — и человечество Бога, и божественность спасенных. Это учение так всегда и оставалось исключительным признаком византийского православия, которого не было ни в одной другой версии христианства[5].
Но сопротивление логическое тоже было сильным. Оно ослаблялось только тем, что богословские тезисы не всегда обязаны быть логически грамотными. Богословие обходится с логикой аналогично тому, как современная физика обходится с математикой: заинтересованно, даже корыстно — но нельзя сказать, чтобы совсем уже уважительно. А уж тем более споры о логических основаниях математики физиков не интересуют, — ведь и самих практикующих математиков они интересуют не очень. Специалист по математической логике изучает результаты трудов математиков, а большинство математиков не увлекаются чтением трудов по математической логике. Аналогичный механизм ослаблял давление логических представлений античности на взаимную борьбу богословских учений. Но как бы ни ослаблял, это давление оставалось сильным.
В Византии сохранялось античное представление, что логика бывает только одна. Или, точнее, только две: правильная и неправильная. Это так называемый логический монизм. И эта правильная логика не нарушает трех базовых законов, сформулированных Аристотелем: (1) тождества, (2) непротиворечия и (3) исключенного третьего.
Только относительно третьего из этих законов могло быть послабление: для некоторых ситуаций он считался неприменимым (например, относительно ложности или истинности суждений о будущем — скажем, будет ли завтра морская битва? — тут нельзя выбрать между «да» и «нет»; сейчас эту область суждений относят к модальной логике). Но первые два закона, как считалось, нарушаться не могли. Они эквивалентны друг другу, то есть нарушаются или соблюдаются только вместе. Если нарушается тождество (например, «Вася — это не Вася»), то нарушается и запрет на противоречие (согласно которому два противоречивых высказывания не могут быть истинными в одном и том же смысле одновременно), равно как и при нарушении запрета на противоречие будет нарушаться и закон тождества.
Как нетрудно догадаться, христианское богословие никак не упаковывалась в такую логику. Святоотеческой консенсус обычно реагировал резко против попыток ее туда впихнуть — редких, но совершавшихся на протяжении всего «византийского тысячелетия». Вместо этого христианскую догматику обычно описывали так: всё что можно описать в пределах логического монизма, так и описывалось, а потом всё остальное — то есть как раз самое главное — описывалось как нарушение всех мыслимых законов самим Творцом этих законов. Бог идеже хощет, побеждается естества чин («Там, где хочет Бог, естественный порядок нарушается») — поется в церковном песнопении VIII века как раз по поводу тайны боговоплощения[6].
С богословской точки зрения, нарушения «законов естества» происходили, разумеется, далеко не хаотично, а в согласии с целями Бога, как их понимало богословие. Фактически это приводило к тому, что в Византии развивалась как бы «вторая логика», в которой законы Аристотеля нарушались. На словах исповедовался «логический монизм» с возможностью нарушения логики как таковой, а на деле предлагался некоторый «логический плюрализм».
Византийские богословы позаботились создать для этого «логического плюрализма», необходимого в богословии, особый описательный язык. Больше всего тут сделали Григорий Богослов, Максим Исповедник, но особенно — автор конца V века, чьи сочинения дошли до нас под именем Дионисия Ареопагита (более всего — в трактате О божественных именах). Дионисий Ареопагит сформировал византийский стандарт — как говорить о Боге, постоянно используя противоречия, вплоть до того, что о Боге нельзя даже сказать, что он существует, не сказав одновременно, что он не существует[7]:
| [Божество] есть причина всякого бытия, но само оно — несуществующее (μὴ ὄν), потому что выше всякой сущности. | αἴτιον μὲν τοῦ εἶναι πᾶσιν, αὐτὸ δὲ μὴ ὂν ὡς πάσης οὐσίας ἐπέκεινα. |
| …потому что оно есть виновное [то есть является причиной] всех существ, само же оно — ничто (οὐδέν), пресущественно изъятое от всего [= потому что превышающим всякую сущность / бытие образом оно трансцендентно всему]. | ὅτι πάντων μέν ἐστι τῶν ὄντων αἴτιον, αὐτὸ δὲ οὐδὲν ὡς πάντων ὑπερουσίως ἐξῃρημένον. |
Легко заметить, как плохо у такого Бога может обстоять дело с тремя законами логики Аристотеля. Но не менее легко заметить, что за нарочитой «алогичностью» высказываний Ареопагита проступает своеобразная логика. Такая логика, допускающая противоречия разного рода, сегодня имеет общее название неконсистентной. Для магистрального направления византийского богословия неконсистентность Бога была сама собой разумеющейся, хотя современные «аналитические богословы» (богословы, говорящие на языке аналитической философии) почитают такую мысль чудовищной[8].
На Западе сторонники подобного богословия были в меньшинстве, а после посмертного осуждения учения его главного защитника в латинской схоластике, Мейстера Экхарта[9] (ок. 1260–ок. 1328), в 1329 году — и вовсе почти пропали, хотя было еще одно яркое исключение в лице Николая Кузанского (1401–1464)[10]. Зато в Византии того же времени идеи Ареопагита считались настолько нормативными, что корпус его сочинений, в соответствии с их атрибуцией ученику апостола Павла[11], считался прямым продолжением Павловых посланий и имел почти такой же авторитет.
Тем не менее, византийским богословам было неинтересно заниматься разработкой чисто логических проблем, а византийские профессиональные логики редко хотя бы просто понимали богословов и предпочитали заниматься своими обычными делами. Поэтому теоретических рассуждений о логическом плюрализме Византия нам не оставила. Представители «второй логики» в Византии были логиками-практиками и даже, в основном, логиками поневоле[12].
Зато по итогам развития логики в ХХ веке мы получили бурную дискуссию о логическом плюрализме в начале века XXI[13]. Поэтому сегодня мы обрели язык для описания логических проблем византийского богословия — и потому я так уверенно говорю о византийском логическом плюрализме (или, как минимум, дуализме). Благодаря тому же развитию логики в ХХ веке, мы сегодня гораздо больше знаем о том, какой может быть логика вообще, а потому получили и вполне рабочие карты тех областей логики, куда, «не зная броду», заходили византийские богословы.
Если Богу византийского христианства весьма и весьма не хватало консистентности, то было бы неразумно ожидать наличие консистентности в способах соединения Бога с человеком. Поэтому «парадоксы» — то есть разнообразные нарушения логики Аристотеля — были неизбежны как в учении о воплощении Бога во Христе (христологии), так и в учении о спасении (обожении). Но для нашей темы гораздо важнее то, что и сама антропология, учение о человеке, было обречено оказаться неконсистентным.
1.5. Принцип антропологической неопределенности
Мы уже выяснили, что человек становится человеком лишь при условии наличия в нем непосредственного и специфического для него лично присутствия Бога. Это присутствие может развиваться до обожения, но может и уменьшаться до нуля (в случае вечной погибели). В любом случае, человек как целое не может быть консистентен. Даже если вместо Бога у него остается ничто, то при этом сам человек не уничтожается, а потому итог такой трансформации не описывается без противоречий.
В истории христианской мысли гораздо лучше, пусть и не особенно хорошо, известны те противоречия, с которыми она сталкивалась при формулировке христологического догмата[14]. Христианская антропология развивалась, в основном, в фарватере этих же споров, но ее развитие изучено еще хуже.
Еще в самом своем начале христианство размежевалось с гностицизмом — отбросив, в частности, представление о Христе как Боге, создавшем лишь иллюзию человеческого облика. Это дало начало, еще в III-IV веках, христологической полемике, которая не кончается до сих пор. Если человечество Христа реально, то как реальный человек соединился в нем с реальным Богом? Отвечая на этот вопрос, приходилось обсуждать и — интересующий нас — вопрос о том, что означает реальность человека.
В христологии, если смотреть из Византии, все догматические споры шли между «недочеловеческими» и «недобожественными» подходами: первые не уделяли достаточного совершенства человечеству Христа, а вторые — божеству (а если смотреть не из Византии, то все равно найдутся близкие аналогии[15]).
Человек с современным образованием непременно вспомнит аналогию из истории физики — попытки описать природу света, который в одних опытах ведет себя как поток частиц (корпускул), а в других — как электромагнитные волны. Подобно этому, Христос ведет себя в одних случаях как Бог, а в других — как человек. Но в физике в 1926 году было сформулировано Вернером Гейзенбергом учение о корпускулярно-волновом дуализме света. Было найдено соотношение обеих картин. На уровне математического формализма оно было записано в виде соотношения неопределенностей (иначе называемого принципом неопределенности) Гейзенберга, и эта математическая запись уже с 1930-х годов принята всеми учеными. Это соотношение просто констатирует факт, что параметры, характеризующие свет как поток частиц, нельзя измерить одновременно с параметрами, характеризующими его как волны: мы обязаны выбирать, какую часть картины мы хотели бы видеть четко, а какую — размазано. Другое дело, как понимать физический — а тогда уже и философский — смысл принципа неопределенности: в этом отношении среди физиков нет согласия до сих пор.
Примерно так же оказалась устроена византийская христология: либо мы можем хорошо рассмотреть человечество Христа, но с большим риском вообще потерять из виду, что он Бог, либо — божественность Христа, с таким же риском потерять из виду, что он человек. Христологические споры велись поэтому рекурсивно — постоянно повторяя один и тот же сценарий: некое одностороннее мнение абсолютизируется, вызывает против себя реакцию, с новой четкостью формулируется противоположное мнение, постепенно оно тоже абсолютизируется и опять вызывает против себя реакцию…
Если читать обо всем этом в учебниках или трудах историков, хотя бы и специализирующихся по церковным делам, но далеких внутренне от интересов догматики, — возникает впечатление, будто судьба христологии описывается детским стихотворением «Велика у стула ножка! / Подпилю ее немножко! / (…) / А теперь вот эта ножка! / Эх, ошибся я немножко!»[16]. Вполне очевидно, однако, что у самих византийцев было другое впечатление, хотя оно и не так часто эксплицировалось. Тем не менее, случаев прямого обсуждения подобных проблем у византийских авторов достаточно, чтобы нам можно было понять, о чем речь.
Мне уже не раз приходилось останавливаться на этой теме[17], поэтому сейчас сформулирую кратко. Возобладавший в патристике подход очень напоминал подход творцов квантовой механики — Нильса Бора (1885–1962) и Вернера Гейзенберга (1901–1976), — создателей так называемой Копенгагенской интерпретации квантовой теории (авторитет которой среди современных физиков велик, но далек от преобладания — именно по причине подразумеваемого в ней нарушения логических «законов» Аристотеля[18]). Этот подход был назван Нильсом Бором принципом соответствия. Согласно принципу соответствия, для описания квантово-механических явлений используются категории классической физики — заведомо неподходящие, — но затем устанавливается соотношение этих категорий с квантовой реальностью. Таким соотношением стал принцип неопределенности Гейзенбрега — заведомо неклассический.
Нечто подобное мы видим и в патристике, когда используются категории логики, не нарушающей «законы» Аристотеля, но затем вводится особый «принцип соответствия», который их нарушает. Так выстраивается и учение о Боге-Троице, и учение о воплощении такого Бога во Христе[19], и учение о обожении (спасении) в таком Боге человека. Так, например, Евлогий Александрийский (патриарх с 580 по 607) соглашается с тем, что применение к Богу понятия «ипостась» должно вносить в Бога некую «сложность» (т.е. предположение, будто есть что-то, из чего Бог «состоит»), но тут же утверждает, что к Богу это понятие применяется так, чтобы сложности не возникало, — хотя это и невозможно себе представить. Аналогичным образом, Феодор Студит соглашается со своими оппонентами-иконоборцами в том, что изображением человеческого облика Христа изображается Иисус как особенный человек, а не непосредственно Бог-Логос, и соглашается даже с тем, что такое изображение должно логически подразумевать существование Иисуса как самостоятельного человека (а это было бы воспринято в Византии IX века как ересь несторианства), — но при этом он утверждает неприменимость к данному случаю — случаю воплощения Бога — самих законов логики. Да, пишет Феодор, в Иисусе есть всё, что должно быть в отдельном человеке, но все же он не является отдельным человеком, так как всё это воспринято Логосом. В Иисусе Логос стал одним из человеческой толпы, Иисусом, не переставая быть единым от Святыя Троицы, Богом-Логосом. Такое богословие не помещается в категории античной логики, но, как пишут Евлогий Александрийский, Феодор Студит и многие другие отцы, оно и не должно туда помещаться. Существует некоторый порог, на котором надлежит прощаться с античной логикой.
Подобно византийцам, у творцов Копенгагенской интерпретации квантовой теории не было в руках никакого логического аппарата, который позволил бы применить вместо принципа соответствия принципы неконсистентных логик — то есть описывать квантово-механические явления в более адекватных квантовой реальности физических категориях и с использованием математического аппарата, основанного на неконсистентной теории множеств. Такое стало возможно не раньше 1970-х годов, а бурное развитие неконсистентных квантовых логик — это и вовсе явление XXI века[20].
Чтобы понять антропологию византийской патристики, нам также помогут неконсистентные логики. Но это нам, а у самих византийских отцов был принцип соответствия, аналогичный боровскому: эксплицитная неконсистентность допускалась только в формулировках отношений между понятиями, сформулированными в консистентных логиках.
Это проявлялось и в антропологии. Как мы уже успели заметить, в человеке главным является то ли «частица Бога», то ли некоторое «Я», от имени которого говорил наш анонимный подвижник. Полемика с Аполлинарием выявила, что никакой ясности в их взаимоотношениях нет. Термин «ум» (νοῦς) мог подразумевать и то, и другое — и образ Божий, то есть «частицу Бога», и это самое «Я», которое является субъектом спасения или погибели, то есть субъектом свободной воли. Ум оказывается одновременно божественным и человеческим — но так, что мы видим хорошо либо только божественное (когда обсуждаем его природное стремление к Богу), либо только человеческое (когда обсуждаем его свободу выбирать, какому из стремлений следовать, — к Богу или желаниям плоти).
Кто-то может возразить, что картина консистентна, так как «часть Бога» — это Бог, а субъект свободной воли — это не Бог, а человек. Но мы уже видели во многих высказываниях святых отцов, что это не так. Без «части Бога» не будет и человека. Григорий Богослов говорит, что «часть Бога» — это «мы», то есть мы сами, а не какое-нибудь «оно». Но «часть Бога» не выбирает отдаление от Бога, а ум — может выбирать и выбирает на самом деле. Здесь неконсистентность, и нельзя ее избежать тривиализацией проблемы, то есть механическим разделением человека или хотя бы только ума на «божественную» и «человеческую» составляющие. Так не выйдет. То есть выйдет, но только ценой разрыва с традицией восточной патристики.
Забегая вперед, скажем, что ум — а, через это, и весь человек — описывается в восточно-христианской антропологии через принцип неопределенности. Мы не можем рассматривать одинаково хорошо человека (или только его ум) как «часть Бога» и как субъект свободной воли. Что-то одно окажется в фокусе, а что-то другое — расфокусировано пропорционально сфокусированности первого. Мы это назовем принципом антропологической неопределенности.
Посмотрим теперь, как он описывался в патристике, — как византийские отцы решали проблему соединения божественного и тварного в человеке.
2. Человеческое «Я» у Христа и принцип антропологической неопределенности
2.1. Разумность «человеческого животного»
Мы уже выяснили, что человечество Христа, по Аполлинарию, было человечеством человеческого животного, но при этом у нас оказалось, что «человеческое животное» Аполлинария — это не животное стоиков, не биологический автомат, а нечто более сложное. В спорах IV века оппоненты Аполлинария часто полемически огрубляли его взгляды, но такие приемы бывают хороши для победы в публичном диспуте, а не для выяснения истины. Поэтому совсем уже игнорировать сложность аргументации Аполлинария не удавалось. Надо сказать, у авторов IV века обсуждение глубинных проблем, затронутых в тогдашних богословских спорах, было более тщательным, чем в современной историографии. Современные ученые все еще плохо понимают их важность — и для последующей богословской традиции, и вообще для нашего понимания антропологии.
Из аргументации Аполлинария труднее всего ответить оказалось на следующее. Вот фрагмент[21], в котором Аполлинарий высказывается о такой субъектности «одушевленной плоти» Христа, которая не может относиться к животным в обычном смысле слова. Тут речь идет о грехе, а грех из жизни обычного животного исключен. Аполлинарий приписывает плоти происхождение греховных помыслов, причем, делает это так, что оспорить невозможно, — цитируя Павла (Рим. 7:23):
| Но плоть не бездушна: ибо о ней говорится, что она воюет против духа и противу воюет закону ума (Рим. 7:23); одушевленными же мы называем и тела бессловесных [т.е. животных]. | ἀλλ’ οὐκ ἄψυχος ἡ σάρξ· στρατεύεσθαι γὰρ κατὰ τοῦ πνεύματος εἴρηται καὶ ἀντιστρατεύεσθαι τῷ νόμῳ τοῦ νοός· ἔμψυχα δέ φαμεν καὶ τῶν ἀλόγων τὰ σώματα. |
Постоянная война против духа и «закона ума» — это нечто не свойственное животным, хотя этим занимается душа такого типа, который свойственен и животным. Но для животных такая деятельность животной души естественна и не греховна — так как животные и не имеют «духа» или «закона ума», против которого она могла бы быть направлена. В данном же месте речь идет именно о греховной деятельности «бессловесной» души. Эта «бессловесная», то есть неразумная душа все же более разумна, чем о ней полагают многие исследователи в наше время: ведь воюя против «закона ума», она порождает не что иное, как греховные помыслы. Это она является их источником. Выражаясь стандартным языком современной психологии, следовало бы признать эту животную душу мыслящей; правда, современная психология затруднилась бы приписать подобное мышление животным, но, как мы видели, для зоопсихологии поздней античности это было легко: во всяком случае, специфика такого мышления не выходила за пределы различий, которые бывают у разных видов животных между собой. А с точки зрения традиционной византийской аскетики, мы можем вспомнить нашего старца, который контролировал и сдерживал движения как раз этой своей души, говоря о ней в третьем лице.
Не могу не заметить, что и для современных исследователей, читающих материалы антиаполлинаристской полемики в контексте восточнохристианской аскетики, — теории которой были, в основном, разработаны как раз тогда, во второй половине IV века, — вполне очевидно, что «человеческое животное» Аполлинария предполагалось разумным в бытовом смысле этого слова — просто потому, что такого рода разумность в человеке не является аскетической добродетелью, не имеет ценности для жизни вечной, но зато легко совмещается с любыми грехами и уподоблением человека скотом несмысленным (Пс. 48:13, 21)[22].
У Аполлинария сохранилось и прямое высказывание по этому поводу[23]:
| Плоть же Божия — орудие жизни, по божественным советам [т.е. по решению Божию], приноровленное ко страстям. Однако (у нее) ни помышления (λόγοι), ни деяние [вариант: деяния] не являются специфическими для плоти, так как она хотя и подвержена страстям, как это присуще плоти, но укрепляется [т.е. противоборствует] против страстей, благодаря тому, что она — плоть Бога, так что она предводительствует к бесстрастию тех, кто хотя и не подобен ей, но единоживотен [ὁμοζώοις «единоживотным», ср. ὁμοούσιοις «единосущным»] по плоти. | Σὰρξ δὲ θεοῦ ζωῆς ὄργανον ἁρμοζόμενον τοῖς πάθεσι πρὸς τὰς θείας βουλάς. Καὶ οὔτε λόγοι σαρκὸς ἴδιοι οὔτε <ἡ> πράξις [вариант: πράξεις], καὶ τοῖς πάθεσιν ὑποβαλλομένη κατὰ τὸ σαρκὶ προσῆκον, ἰσχύει κατὰ τῶν παθῶν διὰ τὸ θεοῦ εἶναι σάρξ, ὥστε καὶ κατάρξαι τῆς ἀπαθείας τοῖς οὐχ ὁμοίοις μέν, ὁμοζώοις δὲ σώμασιν. |
Нам важно заметить из этого отрывка, что «плоти» Христа совершенно прямо приписывается умение не только действовать, но и мыслить, но при этом лишь утверждается, что она действовала и мыслила не так, как это было бы свойственно плоти самой по себе. Тот факт, что это были обычные человеческие способности мыслить и действовать, но только мыслили и действовали они необычно, подчеркивается термином «единоживотный»: «человеческое животное» во Христе и в каждом из нас не различаются. Различие между Христом по человечеству и нами — согласно Аполлинарию, находится за пределами устроения человека как животного. Действительно, ум — это и есть то, что присуще человеку не как животному особого вида, а как вообще не животному.
Многословная ответная реплика «Православного» бьет мимо цели: она трактует это высказывание как фактическое, хотя и не признаваемое Аполлинарием отрицание взятия Логосом человеческих способностей жить, мыслить, и «страдать» (то есть пассивно претерпевать)[24]. Такое возражение, впрочем, интересно как свидетельство от оппонентов Аполлинария о том, что он не хотел отрицать разумную способность «плоти».
Оценивая это возражение по существу, сделаем поправку на то, что православность, в византийском смысле, «Православного» из этого «диалога» не стоило бы преувеличивать. Он пишет с позиций «антиохийского» богословия, в духе Феодорита Кирского (ок. 393–ок. 458/466), а это богословие в Византии так и не будет принято и даже будет осуждено Пятым Вселенским собором в 553 году. Отличительной особенностью его являлось такое разделение человеческого и божественного во Христе, чтобы у каждого из них был собственный субъект — отдельно у божества и отдельно у человечества[25]. Для Аполлинария, как и для Пятого Вселенского собора, было необходимо сохранить во Христе только один субъект всех действий — божественный Логос.
Современный (и весьма выдающийся) историк христианского богословия, комментируя этот отрывок из Аполлинария, пишет, что главное отличие Аполлинария от христологии Каппадокийцев — в том, что для Аполлинария Христос является Спасителем, прежде всего, потому, что он не таков, как мы, — тогда как для Каппадокийцев важно противоположное: что во Христе Логос принял всё целиком устройство индивидуального человека, ибо «что не воспринято — то не уврачевано» [26]. Но спор между Каппадокийцами и Аполлинарием касался все-таки не самого факта антропологического различия между Иисусом и всеми людьми, а того, в чем конкретно это различие состояло. В этом отношении безымянному оппоненту Аполлинария, который сохранил для нас последнюю его цитату (Псевдо-Афанасию, автору V Диалога о Св. Троице), было гораздо легче, так как он и на самом деле, по всей видимости, не допускал никакого значимого для антропологии различия между Иисусом и прочими людьми: его христология была двухсубъектной. Но для сторонников односубъектной христологии всегда оставалась проблема: как объяснить, почему человек Иисус — это все-таки Логос Божий, а любой другой человек — это Петя или Вася. Тут не могло не быть такого отличия, которое все-таки значимо для антропологии.
2.2. Аполлинарий или все-таки Максим Исповедник?
Вернемся к антропологическому аспекту христологии Аполлинария. Что с ним было не так? Теперь мы можем уточнить этот вопрос: что конкретно подразумевалось под человеческим умом, наличие которого во Христе отрицал Аполлинарий, но утверждали его оппоненты?
Мы уже выяснили, что ум человека — это и «частица Бога», и его «Я», его субъектность. Претензии сторонников двухсубъектной христологии к Аполлинарию поэтому совершенно понятны: он отрицал отдельную человеческую субъектность Христа. Но не менее понятны их же претензии к победившему в Византии христологическому направлению, утвержденному Пятым Вселенским собором в 553 году: сторонники двухсубъектной христологии так всегда и будут обвинять сторонников односубъектной в ереси Аполлинария. Иными словами, собственная позиция таких противников Аполлинария сама была квалифицирована в Византии как ересь.
По-настоящему для нас будет интересна антиаполлинаристская полемика тех, кто и сам придерживался односубъектной христологии, то есть считал, что субъектом всей деятельности Иисуса является только божественный Логос, а не Иисус как самостоятельный человек. Таковы были богословы Каппадокийского кружка и все их византийские последователи, настаивавшие на смысле Христова воплощении как обожении. Для них было важно, что Христос — это Бог, ставший совершенным человеком, а сделал он это для того, чтобы каждый спасаемый человек, оставаясь человеком, стал совершенным Богом. Как было хорошо замечено современным ученым, христология Каппадокийцев была, по сути, сотириологией — учением о спасении, и этим определялись ее главные черты, среди которых — односубъектность[27]. Односубъектность Христа подразумевала односубъектность и каждого спасенного человека — даже и тот простой факт, что обожение не порождает в нем «раздвоения личности».
Сторонники односубъектной христологии соглашались с Аполлинарием также и в том, что именно благодаря односубъектности Христос был безгрешен — не склонился ни к какому греху. Наконец, они соглашались и с тем, что подобная устойчивость человеческой воли против греха человеческой природе недоступна.
Выше мы отметили всё же одно различие между позициями Аполлинария и его оппонентов: для Аполлинария в Иисусе была излишней та «частица Бога», без которой человек не будет человеком (гл. 2, раздел 3.4). Но совсем не на этом различии была сосредоточена антропологическая составляющая полемики. Она была сосредоточена, как ни странно, именно на понимании субъектности.
Прежде чем мы перейдем к взаимно противоречивым попыткам оспорить Аполлинария в IV веке, будет полезно забежать вперед и прочитать у Максима Исповедника формулировки того учения, которое с конца VII (и уж точно, что с IX) века становится для Византии нормативным, пройдя еще один виток догматических споров с 630-х по 680-е годы.
Максим толкует выражение апостола Павла, утверждающего, что Христос стал за нас «грехом» (2 Кор. 5:21). Слово «грех», объясняет Максим, употребляется в разных смыслах, и одно дело — грех как добровольный выбор зла, а другое дело — грех как условия, которые создались в результате чьих-то прошлых прегрешений, но в которых ты сам не виноват. Христос стал «грехом» только во втором смысле, приняв на себя человеческую природу тленной — то есть такой, какой она не была сотворена изначально, а стала в результате испорченности грехом Адама. Тут надо заметить, что «тление» — это важнейший термин патристики, который одинаково приложим и к биологическому разложению и гниению, и к разрушению неживой природы, и к порче и осквернению грехом человеческой свободной воли.
Во Христе эта больная тлением человеческая природа изменилась в нетленную. Теоретически она должна была бы заразить своим тлением человеческое произволение Иисуса, склонив его к добровольному выбору греха; именно так тление естества вызывает тление произволения и затем актуальный выбор греха у всех людей. Но произволение Иисуса не было тленным — то есть вообще не обладало способностью к тлению, именно потому, что это было произволение единственного субъекта во Христе — Логоса Божия. Поэтому оно не только само не истлело, но и излечило от тления саму воспринятую Иисусом человеческую природу (или естество: «природа» и «естество» — это, напомним, два равноправных перевода φύσις).
Теперь прочитаем самого Максима (Вопросоответы к Фалассию, 42) и постараемся отметить такие отличия от Аполлинария, которые нельзя объяснить различием терминологии[28]:
| Исправляя это чередующееся тление и изменение естества, Господь и Бог наш воспринял всё это естество целиком, и в воспринятом естестве Он также имел страстность, украшенную [Им] по произволению нетлением. Поэтому вследствие страстного начала Он стал по [человеческой] природе ради нас грехом (2 Кор. 5:21), не ведая гномического [т.е. добровольно избранного] греха благодаря непреложности произволения. Этой нетленностью произволения [Господь] исправил страстность естества, соделав конец страстности естества — я имею в виду смерть — началом претворения по естеству к нетлению. И получилось, что как через одного человека, добровольно отвратившего свое произволение от блага, естество претворилось из нетления в тление, так и через одного человека Иисуса Христа, не отвратившего [Свое] произволение от блага, произошло для всех людей восстановление естества из тления в нетление. | Ταύτην οὖν τὴν διάλληλον φθοράν τε καὶ ἀλλοίωσιν τῆς φύσεως ὁ κύριος ἡμῶν καὶ θεὸς διορθούμενος, ὁλόκληρον τὴν φύσιν λαβών, εἶχε καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ληφθείσῃ φύσει τὸ παθητὸν τῇ κατὰ προαίρεσιν ἀφθαρσίᾳ κοσμούμενον, καὶ γέγονε φύσει μὲν διὰ τὸ παθητὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτία, μὴ γνοὺς δὲ τὴν γνωμικὴν ἁμαρτίαν διὰ τὴν ἀτρεψίαν τῆς προαιρέσεως· τὸ δὲ παθητὸν τῆς φύσεως διὰ τὴν ἀφθαρσίαν τῆς προαιρέσεως διωρθώσατο, τὸ τέλος τοῦ παθητοῦ τῆς φύσεως, φημὶ δὲ τὸν θάνατον, τῆς κατὰ φύσιν πρὸς ἀφθαρσίαν μεταποιήσεως ἀρχὴν ποιησάμενος. Καὶ γέγονεν, ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου τραπέντος ἑκουσίως ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ τὴν προαίρεσιν εἰς πάντας ἀνθρώπους ἡ τῆς φύσεως ἐξ ἀφθαρσίας εἰς φθορὰν μεταποίησις, οὕτως δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὴ τραπέντος ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ τὴν προαίρεσιν, εἰς πάντας ἀνθρώπους ἡ τῆς φύσεως ἐκ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν ἀποκατάστασις. |
Максим говорит «произволение» (προαίρεσις) там, где Аполлинарий говорил «ум», но в остальном это та же самая схема исправления человеческого естества, которую мы видели выше у Аполлинария (в предыдущем разделе). Значение термина «произволение» у самого Максима менялось в течение его жизни[29]; в данном случае «произволение» — это свободное направление для действия, определяемое самим субъектом этого действия.
Даже и от терминологии Аполлинария Максим особо не удаляется. Вот одно из определений ума у Григория Нисского, данное именно в контексте антиаполлинаристской полемики: «произволение есть не что иное как некий ум и расположение к чему-либо (ἡ δὲ προαίρεσις οὐδὲν ἕτερον εἰ μὴ νοῦς τίς ἐστι καὶ πρός τι διάθεσις)»[30]. Слово «произволение» здесь употреблено в том же смысле, что и у Максима в нашей цитате, а слово «ум» — в том смысле, в котором об этом понятии спорили с Аполлинарием. Здесь «ум», или «произволение» — это способность обладать субъектностью по отношению к собственным действиям.
Имея в виду такое определение из Григория Нисского, подставим теперь в нашу цитату из Максима «ум» на место «произволения». Теперь вообще невозможно отличить от Аполлинария, если мы только заранее не узнаем, кто автор.
Нам остается одно из двух: либо признать, что хоть имя Аполлинария погибло, учение его победило — во всяком случае, в антропологическом аспекте, — либо предположить, что мы попали в зону действия принципа антропологической неопределенности и сейчас видим картину только с одной стороны (как бы аналогично наблюдению дифракции света, где свет ведет себя так, как если бы он был только волнами, не видя при этом рассеяния фотонов на электронах, эффекта Комптона, при котором свет ведет себя как поток частиц). Если такое предположение верно, то где-то должна быть и другая сторона картины. Однако, прежде чем найти ее у Максима Исповедника, нам будет полезно посмотреть, как пытались решить эту проблему в IV веке.
Пока что мы сфокусировали наши недоумения на одном из высказываний Максима Исповедника, которое оказалось слишком созвучным Аполлинарию. Еще при жизни Максима обстоятельства богословских споров сложились так, что ему самому пришлось вернуться к этому своему высказыванию и объяснить его смысл в более строгих терминах. К этому его объяснению мы вскоре перейдем (в разделе 3.1).
Сторонники двухсубъектной христологии спорили против Аполлинария со спокойной уверенностью: вот четкая линия фронта, здесь «наши», здесь «не наши»; вот Логос и его божественное «Я», а вот Иисус с полноценным человеческим «Я». Термин «Я» тут, конечно, представляет собой модернизацию терминологии, но скоро мы перейдем к аутентичным терминам, а соответствие этим терминам у нас и сейчас вполне корректное: речь идет о субъекте свободной воли — о том, кто «волит».
Сторонникам односубъектной христологии приходилось гораздо труднее в плане внешней убедительности для третьих лиц: им приходилось утверждать взаимоисключающие вещи и затем просто настаивать на том, что эти вещи друг друга взаимоисключали-взаимоисключали, да так и не взаимоисключили. Сначала, против Аполлинария, они утверждали наличие в человеке-Иисусе человеческого субъекта свободной воли, человеческое «Я». Но они тут же натыкались на возражение аполлинаристов: мол, в таком случае, у вас получается отдельный от Логоса субъект свободной воли, — и тут они отвечали не просто лаконичным «нет», а рисовали целые картины, почему так не получается.
Надо сказать, что у нас не так много текстов, где этот аспект полемики с Аполлинарием проговаривается подробно. Очевидно, тема считалась слишком уж непростой. Главные наши источники IV века — Антирритик против Аполлинария Григория Нисского и анонимный Псевдо-Афанасиев псевдо-диалог (так наз. IV Диалог о Св. Троице), который мы уже цитировали в предыдущей главе.
Григорий Нисский сразу дает понять, что человек отличается от животного свободной волей (в патристике для ее обозначения есть устойчивый термин τὸ αὐτεξούσιον, церковнославянский эквивалент — субстантивированное прилагательное «самовластное»), и именно о субъекте свободной воли идет спор с Аполлинарием[31]:
| Бездушное является мертвым, а одушевленное, но без разумения — является скотским. Он же (Аполлинарий) не избегает даже и такой глупости, отделяя от той плоти (Христа) самовластное: ведь это свойственно бессловесным — быть не самим по себе, а подчиняться начальству человека. | ἀλλὰ τὸ μὲν ἄψυχον νεκρός ἐστι· τὸ δὲ δίχα διανοίας ἔμψυχον κτῆνός ἐστιν, ὅπερ οὐδὲ αὐτὸς οὗτος ἀποφεύγει ὡς ἄτοπον, ἀφαιρούμενος τῆς σαρκὸς ἐκείνης τὸ αὐτεξούσιον· τῶν γὰρ ἀλόγων ἴδιον τὸ μὴ ἐφ’ ἑαυτῶν εἶναι, ἀλλ’ ὑποτετάχθαι τῇ τοῦ ἀνθρώπου ἀρχῇ. |
Субъект «самовластия», то есть свободной воли, также традиционно назывался заимствованным от стоиков (еще в эллинистическом иудаизме) термином τὸ ἡγεμονικόν («господственное», а буквально — «водительствующее», т.е. «главное» в смысле «вождя»)[32] или, реже, τὸ κυριώτατον («господственнейшее»; ср., применительно к душе, у Платона, Тимей, 90а). Григорий обвиняет Аполлинария в том, что, лишив человека этого самого главного элемента человеческого устроения, он оставил вместо человека животное[33]:
| (Христос) не был, как он (Аполлинарий) говорит, единосущен человеку по господственнейшему. Но кто отделяет от человека господственнейшее, чем является ум, тот оставшееся представляет скотом, а скот — это не человек. | οὐ γὰρ ἦν, φησίν, ὁμούσιος τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ τὸ κυριώτατον· ὁ δὲ κυριώτατον ἀφαιρῶν τοῦ ἀνθρώπου, τοῦτο δέ ἐστιν ὁ νοῦς, κτῆνος ἀπέδειξε τὸ λειπόμενον· τὸ δὲ κτῆνος οὐκ ἄνθρωπος. |
Помимо этих возражений Аполлинарию, Григорий Нисский сам утверждает, что во Христе был человеческий ум именно в смысле самостоятельного субъекта свободной воли. Развивая свое определение «произволения» как ума, — уже процитированное нами (раздел 2.2) — Григорий настаивает на абсолютной необходимости признания во Христе человеческой субъектности: иначе, как объясняет Григорий, во всех добрых делах воплотившего Логоса просто не будет ничего доброго[34]. Это как нельзя более серьезный аргумент, поскольку иначе пришлось бы отрицать, что праведная жизнь Иисуса была по-настоящему праведной[35]:
| Итак, каким образом сочинитель [т.е. Аполлинарий] приписывает отсутствие принуждения тому, что не имеет произволения, — тому, в чем нет никакого собственного помысла, способного приводить к прекрасному? Ибо безгрешность, которая не от произволения, совершенно не заслуживает и похвалы; или мы будем тогда уж хвалить и тех, кто удерживаются от злодейства узами, а не предпочтением (γνώμη). | πῶς οὖν τῷ ἀπροαιρέτῳ ὁ λογογράφος μαρτυρεῖ τὸ ἀβίαστον, οὗ μηδεὶς λογισμὸς ἴδιος πρὸς τὸ καλὸν καθηγήσατο ; τὸ γὰρ μὴ ἐκ προαιρέσεως ἀναμάρτητον οὐδὲ ἐπαινετόν ἐστι πάντως, ἢ οὕτω καὶ τοὺς ὑπὸ δεσμῶν πρὸς κακουργίαν κωλυομένους ἐπαινεσόμεθα, οὓς ἀφίστησι τῆς τῶν κακῶν ἐνεργείας ὁ δεσμός, οὐχ ἡ γνώμη. |
Если на этом прервать чтение Антирритика Григория Нисского, то придется сказать, что утверждавшееся им в других контекстах единство Христа на поверку оказывается не единым: субъектов во Христе все-таки два, а не один. Но в реальной жизни остановиться на таком утверждении Григорию Нисскому никто бы не дал.
Аполлинарий обвинял своих оппонентов в том, что они разделяют единого Христа на два разных Сына — совершенного Бога, Сына Божия по естеству, и совершенного человека. Для кого-то из богословов IV века в этом не было ничего криминального (это так называемая «антиохийская» богословская школа, которая породила так называемое несторианство), но для Каппадокийцев это было так же неприемлемо, как и для Аполлинария. На это надо было отвечать — и Григорий Нисский отвечал самой резкой апологией односубъектности. Его любимым сравнением стала капля уксуса, пущенная в море. Капля — это человечество (человеческая природа), море — это божество (божественная природа). Употребив сравнение с каплей уксуса в море, Григорий так развивает мысль о единственности Сына во Христе (в трактате, обращенном к Феофилу, епископу Александрийскому (384–412), — известному оппоненту «антиохийского» богословия, но для Григория Нисского — единоверцу и соратнику)[36]:
| А поскольку же после претворения всего наблюдаемого у смертного в свойства божества различие не познается ни в чем (ибо то, что можно увидеть у Сына, — это божество, премудрость, освящение, бесстрастие), то как может разделиться единое на два обозначаемых, если число не расчленяется никаким различием? | ἐπειδὴ δὲ πάντων τῶν τῷ θνητῷ συνεπιθεωρουμένων ἐν τοῖς τῆς θεότητος ἰδιώμασι μεταποιηθέντων, ἐν οὐδενὶ καταλαμβάνεται ἡ διαφορά (ὅπερ γὰρ ἄν τις ἴδῃ τοῦ υἱοῦ, θεότης ἐστί, σοφία, δύναμις, ἁγιασμός, ἀπάθεια), πῶς ἂν διαιροῖτο τὸ ἓν εἰς δυϊκὴν σημασίαν, μηδεμιᾶς διαφορᾶς τὸν ἀριθμὸν μεριζούσης ; |
В реалиях пятого и более поздних веков византийцы назвали бы такую христологию монофизитской (преуменьшающей совершенство человечества во Христе) и осудили бы самым решительным образом. Разумеется, подобные высказывания Григория Нисского были популярны у тех, кого византийская ортодоксия считала монофизитами. Но это не бросало ни малейшей тени подозрения на христологию самого Григория Нисского, чей богословский авторитет нисколько не пострадал. Нам предстоит задуматься, почему так вышло, а пока прочитаем самый развернутый ответ Григория Нисского на обвинение в том, что защищаемое им богословие разделяет единого Сына надвое[37]:
| Остается, что благоразумнее всего полагать о Боге то, что сходится с целью его человеколюбия, а специального имени этому [тому, что мы полагаем относительно Бога] не выдумывать никакого, но именовать (именем) того, что избыточествует и преобладает, как это бывает относительно моря: если кто каплю уксуса пустит в море, и эта капля делается морем, сопретворившись [т.е. переделавшись] по качеству в морскую (воду). То же самое [происходит] и с истинным Сыном и единородным Богом, светом неприступным, саможивотной мудростью, освящением же и силой и всем возвышенным как по имени, так и по смыслу, — когда он явился людям посредством плоти, а плоть, хотя и сущую по своему собственному естеству плотью, претворил в море нетления, как говорит Апостол: Да пожерто будет мертвенное животом (2 Кор. 5:4). И всё, что тогда являлось по плоти, сопреложилось [т.е. превратилось] в божественное и беспримесное естество. Не пребывает [т.е. не сохраняется] ни тяжесть, ни вид, ни цвет, ни твердость, ни мягкость, ни описуемость по количеству [т.е. количественная измеримость], ни иное что из тогда виденного, когда срастворение с божественным восприяло смирение плотяного естества в божественные свойства. | λείπεται δὲ, ὅπερ ἂν τῷ σκοπῷ τῆς φιλανθρωπίας συμβαίνῃ, τοῦτο εὐλογώτερον περὶ τὸν θεὸν οἴεσθαι, ὄνομα δὲ αὐτῷ ἴδιον ἐφευρίσκειν μηδέν, ἀλλὰ τῷ πλεονάζοντι καὶ ἐπικρατοῦντι συνονομάζεσθαι, καθάπερ ἐπὶ τοῦ πελάγους γίνεται· εἰ γάρ τις σταγόνα ὄξους ἐπιβάλοι θαλάττῃ καὶ ἡ σταγὼν θάλασσα γίνεται συμμεταποιηθεῖσα τῇ θαλασσίᾳ ποιότητι, οὕτως ὁ ἀληθινὸς υἱὸς καὶ μονογενὴς θεός, τὸ ἀπρόσιτον φῶς καὶ ἡ αὐτοζωὴ σοφία τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ δύναμις καὶ πᾶν ὑψηλὸν ὄνομά τε καὶ νόημα — ταῦτα ὁ διὰ σαρκὸς φανερωθεὶς τοῖς ἀνθρώποις ἐστί· τῆς δὲ σαρκὸς τῇ ἰδίᾳ φύσει σαρκὸς οὔσης, μεταποιηθείσης δὲ πρὸς τὸ τῆς ἀθανασίας πέλαγος, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος ὅτι Κατεπόθη τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς, συμμετεβλήθη καὶ πάντα τὰ κατὰ τὴν σάρκα τότε φαινόμενα πρὸς τὴν θείαν τε καὶ ἀκήρατον φύσιν· οὐ βάρος, οὐκ εἶδος, οὐ χρῶμα, οὐκ ἀντιτυπία, οὐ μαλακότης, οὐχ ἡ κατὰ τὸ ποσὸν περιγραφή, οὐκ ἄλλο τι τῶν τότε καθορωμένων οὐδὲν παραμένει, τῆς πρὸς τὸ θεῖον ἀνακράσεως εἰς τὰ θεϊκὰ ἰδιώματα τὸ ταπεινὸν τῆς σαρκώδους φύσεως ἀναλαβούσης. |
Если читать такой текст изолированно, то читатель второй половины V века и любого более позднего времени не найдет в нем ничего, кроме самого резкого монофизитства: плоть Христова приобрела свойства божества, а свои природные свойства плоти она только лишь «являла» — а могла и не являть, являя только свойства божественные. Это относится и к человеческому уму во Христе, и даже к уму — прежде всего, поскольку всё это говорится ради спора против Аполлинария. «Растворив» в себе человечество, божество осталось не просто чистым, а именно «беспримесным» (ἀκήρατος).
Неизвестный нам автор «псевдо-диалога» против Аполлинария сообщает дополнительные подробности относительно психологического устройства Христа. Естественно, что на определенном этапе спора Аполлинарист спрашивает Православного, что, мол, получается, что в теле (Христа) было два «водительствующих» — Бог Слово и человеческий ум (Δύο οὖν ἡγεμονικὰ ἐν τῷ σώματι ἦσαν, ὁ θεὸς λόγος καὶ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ;). «Нет, — отвечает Православный, — но сам Логос предводительствовал умом» (Oὔ, ἀλλ’ αὐτὸς ὁ λόγος ἡγεμόνευε τοῦ νοῦ). Но как же возможно, чтобы при этом не возникло двух предводителей? — недоумевает Аполлинарист. — И тут Православный развивает следующую теорию: как белый цвет шерсти, когда ее окрашивают, принимает порфирный цвет, и цвет при этом оказывается один, а не два, — так же не получается двух «водительствующих» при соединении ума и Логоса; и также другой пример: «…как музыкант и (музыкальный) инструмент не суть два музыканта, так и Бог Слово и человеческий ум не суть два водительствующих, ибо Логос воспользовался человеческим умом в качестве инструмента» (...ὥσπερ μουσικὸς καὶ τὸ ὄργανον οὐ δύο μουσικοὶ, οὕτως θεὸς λόγος καὶ νοῦς ἀνθρώπινος οὐ δύο ἡγεμονικά. Ἀντὶ γὰρ ὀργάνου τῷ νῶ τῷ ἀνθρωπίνῳ κέχρηται ὁ λόγος). Аполлинарист резонно возражает, что музыкальный инструмент не имеет ума. Но на это Православный, в свою очередь, возражает, что зато и сам музыкант — смертный, а тут у нас Логос бессмертный, и он пользуется нашим умом наподобие того, как мы сами используем в качестве инструмента наше тело[38]. Анонимный автор, будучи современником Григория Нисского и, подобно ему, сторонником односубъектной христологии, избегает широких христологических обобщений, но и в его теории человеческий ум перестает быть самостоятельно действующим. Он оказывается связан Логосом наподобие того, как в примере Григория Нисского связан злодей, который не творит зла, но не совершает этим ничего похвального.
Если человеческий ум растворился в море божества, как капля уксуса, то стоило ли городить огород, поднимая весь христианский мир на борьбу против Аполлинария? Разве не один и тот же итог — не иметь человеческого ума с самого начала, как учил Аполлинарий, или иметь, но растворить без остатка в божестве, как учили противники Аполлинария из числа сторонников односубъектной христологии? Разве нельзя теперь повторить против самого Григория Нисского все его аргументы по поводу того, что Христос без человеческого ума не может являть примера благочестивой жизни, а получается чем-то вроде закованного злодея, которого просто физически не пускают творить злые дела?
Если рассуждать «логически» в смысле «единственно правильной» логики Аристотеля, то на все эти вопросы ответ положительный. Аргументация Григория никуда не годится. Он сам себе противоречит. К такому выводу приходит и автор недавнего подробного исследования христологии Григория Нисского, который анализировал логику его аргументов и нашел ее неконсистентной. По оценке этого автора, у Григория не получилось сформулировать настоящее богословие воплощения Логоса[39]. Если считать, что такое богословие обязано быть консистентным, то к другому выводу и невозможно прийти. Но мы уже знаем, что оно не просто не обязано быть таковым, но просто обязано быть не таковым.
Зная это, мы можем, если хотим, продолжать читать тексты Григория Нисского как попеременно то «несторианские», то «монофизитские», но должны будем обратить внимание на главную деталь: у настоящих несторианских или монофизитских авторов тексты такого рода не сочетаются вообще — и уж тем более не сочетаются в пределах одного произведения и даже на расстоянии нескольких страниц нашего современного критического издания. Если у Григория Нисского они сочетаются в столь близком соседстве, то это едва ли признак патологической забывчивости или слабоумия. К тому же, речь у нас идет о текстах полемических, причем, весьма успешных, из чего следует, что подобные «вопиющие» нарушения логики принимались обширной аудиторией, включавшей и весьма образованных людей. Поэтому нужно признать, что противоречия Григория Нисского самому себе могли 0 быть только признаком сознательного использования неконсистентной логики — когда истина определяется через одновременное утверждение противоположного. Действительно, как мы вскоре увидим, Григорий Богослов даже эксплицитно обсуждал необходимость использовать неконсистентную логику не только для учения о Троице, но и для понимания человеческой субъектности (раздел 4.2).
Это мы и назвали принципом антропологической неопределенности.
3.1. Свобода по ту сторону «свободы воли»
Мы уже могли заметить, как тесно переплелись в христологических дискуссиях IV–VII веков понятия субъектности и свободы. Наличие или отсутствие отдельного человеческого субъекта во Христе оказывается невозможно рассматривать отдельно от наличия или отсутствия в Иисусе человеческой свободы, или, как принято говорить в западной философии, «свободной воли», liberum arbitrium (что буквально означает свободу решения или выбора). Если свободы нет, то во Христе нет никаких человеческих добродетелей; если человеческая свобода есть, то у нее должен быть свой субъект — то есть тот, кто свободен, — и тогда получается двусубъектная христология.
Если подразумевать под свободой человека именно свободу решения или выбора, то у нас не остается ничего, кроме такой альтернативы. Никаких неконсистентных решений тоже не остается, поскольку само понятие выбора (решения) — тут подразумевается консистентным, это выбор одного из, как минимум, двух. Так это и рассматривалось еще у Аристотеля и рассматривается до сих пор в современной деонтической логике (разновидности модальных логик, где, в частности, обсуждаются вопросы выбора и предпочтений)[40].
Классическая формулировка того, как отличить свободное (τὸ ἑκούσιον «вольное») от несвободного (τὸ ἀκούσιον «невольное»), была дана Аристотелем в Никомаховой этике, III, 1, 1110 a 15-17: πράττει δὲ ἑκών: καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ κινεῖν τὰ ὀργανικὰ μέρη ἐν ταῖς τοιαύταις πράξεσιν ἐν αὐτῷ ἐστίν· ὧν δ᾽ ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχή, ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν καὶ μή («…совершая поступки, действуют по своей воле, ибо при таких поступках источник движения членов тела заключен в самом деятеле, а если источник в нем самом, то от него же зависит, совершать данный поступок или нет»[41]).
В такой логике, если Гефсиманское борение — это свободный выбор Иисусом послушания Отцу, то Иисус — отдельный от Бога человеческий субъект. Если же субъект в Иисусе Бог, то не могло быть и свободного выбора Богом послушания самому себе; в таком случае, есть только один Бог, который и творит свою волю, — как полагал Аполлинарий.
Если византийское православие отвергло такую альтернативу всю целиком, то, значит, у него было свое особенное представление не только о субъектности, но и о свободе.
Действительно, для обозначения индивидуальной свободы в патристике появляется совершенно новый термин — «самовластие» (или «самовластное»: ἡ αὐτεξουσία или τὸ αὐτεξούσιον). Этого термина не знают древнегреческие философы, кроме совсем поздних и уже находившихся под христианским влиянием (как Симпликий, VI в.). Оно даже не встречается в знаменитом словаре древнегреческого языка Лидделла, Скотта и Джонса, куда вошла лексика древнегреческих философов вплоть до поздней античности. Этот термин не был изобретен христианами, но до христиан употреблялся крайне редко[42]. Во II–III веках он используется христианами все чаще (включая Оригена), а в IV веке — начиная с Афанасия Александрийского и продолжая Каппадокийцами и Немесием Емесским — становится для христиан одним из главных понятий всей антропологии.
Из современных языков, имеющих восточнохристианское прошлое, грузинский даже удержал именно это слово для обозначения понятия «свобода»: თავისუფლება t’avisup’leba, этимологически «само-господство» или «само-властие», — это точная калька византийского αὐτεξουσία (тогда как секулярный новогреческий язык использует тут дохристианское слово ἐλευθερία). Это впечатляющая иллюстрация того, какое место в восточнохристианских представлениях о жизни занимало понятие «самовластия».
Итак, что же такое это «самовластие»? — Максим Исповедник объясняет смысл этого понятия так, чтобы мы поняли, каким образом оно применяется и к человечеству Христа, и к свободной воле обоженных. Мы уже заранее настроились не ожидать от Максима непротиворечивого объяснения, но всё же постараемся получше представить себе, о каком «парадоксе» пойдет речь. И в случае Христа, и в случае спасенных (обоженных) людей речь пойдет о том, что исчезает как опция выбора зла. Это автоматически будет следовать (разумеется, только в односубъектной христологии и в учении о спасении как обожении) из того, что и для Бога нет такой опции — выбора зла. Воля Божия может быть только благая. Тогда не получается ли так, что Бог — менее свободен, чем человек, для которого выбор зла открыт?
Такое предположение контринтуитивно, но с консистентным пониманием свободы по Аристотелю другого выхода не остается. Конечно, можно еще просто исключить свободу воли как таковую, считая ее иллюзией: это популярный в западной философии и теологии подход, восходящий к Августину и обретший новое дыхание в физикалистских крайностях позитивизма. Но верность восточной патристике не оставляет нам такой возможности. Даже на западе некоторые наследники схоластики находили способы обосновывать человеческую свободу воли — на мой взгляд, способы неконсистентные, хотя, на «восточный» вкус, недостаточно радикально неконсистентные[43].
Тогда получается, что нужно подойти по-новому к определению свободы. Патристика в лице всех упомянутых авторов как можно дольше стремилась этого не делать, так как любая философская новизна — для полемического богословия минус, поскольку она делает твою позицию более трудной для понимания образованными людьми. Когда Максим Исповедник был, наконец, вынужден погрузиться в эти глубины, ему пришлось объяснять, в первую очередь, свои же собственные более ранние формулировки. Но пора уже прочитать, что он пишет (в трактате, обращенном к одному из близких соратников в 645/646 году)[44], а потом уже сравнить с тем, что он писал раньше.
Итак, вот его новейшее определение самовластия[45] (в этом произведении он пользуется более кратким термином ἐξουσία «властие», но употребляет его строго в значении «само-властие»). В цитируемом отрывке Максим проводит различие между «самовластием» и «произволением», причем, понятие «произволения» (προαίρεσις) он в этом сочинении трактует как действие по преднамеренному выбору. Произволение — в таком смысле слова — оказывается отличным от самовластия и производным от него:
| Но произволение не есть и самовластие (ἐξουσία). Ведь произволение — это, как я не раз говорил, стремление, желающее того, что в нашей власти сделать; а самовластие — это [1] легитимная власть делать то, что [зависит] от нас, [2] или беспрепятственная власть пользования тем, что в нашей власти, [3] или нерабское стремление к тому, что в нашей власти. Не то же самое, значит, самовластие и произволение: если и впрямь произволяем мы по самовластию, но самовластвуем мы не по произволению, а одно (произволение) только выбирает, — тогда как другое (самовластие) использует — и то, что в нашей власти, и то, что зависит от того, что в нашей власти, а именно — произволение, суждение и желание. Ведь мы по самовластию желаем, судим (рассуждаем), произволяем, стремимся и пользуемся тем, что в нашей власти. | Ἀλλ᾿ οὔτε ἐξουσία ἐστὶν ἡ προαίρεσις. Ἡ μὲν γὰρ προαίρεσις, ὡς πολλάκις ἔφην, ὄρεξις ἐστι βουλευτικὴ τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν πρακτῶν· ἡ δὲ ἐξουσία, [1] κυριότης ἔννομος τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν πρακτῶν· [2] ἢ κυριότης ἀκώλυτος τῆς τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν χρήσεως· [3] ἢ ὄρεξις τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν ἀδούλωτος. Οὐκ ἔστιν οὖν ταυτὸν ἐξουσία καὶ προαίρεσις· εἴπερ κατ᾿ ἐξουσίαν μὲν προαιρούμεθα· οὐκ ἐξουσιάζομεν δὲ κατὰ προαίρεσιν· καὶ ἡ μὲν ἐπιλέγεται μόνον· ἡ δὲ χρᾶται τοῖς ἐφ' ἡμῖν, καὶ τοῖς ἐπὶ τοῖς ἐφ᾿ ἡμῖν, ἤγουν, προαιρέσει καὶ κρίσει καὶ βουλῇ. Κατ' ἐξουσίαν γὰρ βουλευόμεθα, καὶ κρίνομεν, καὶ προαιρούμεθα, καὶ ὁρμῶμεν, καὶ χρώμεθα τοῖς ἐφ᾿ ἡμῖν. |
Определений для «самовластия» здесь сразу три разных (мы их пронумеровали). В третьем легко узнаётся определение Аристотеля — свободный выбор делать или не делать то, что зависит только от тебя. Второе определение у античных философов часто подразумевается по умолчанию, а в наше время, вслед за Исаией Берлиным, его часто называют негативным определением свободы: свобода — это когда тебе не мешают делать то, что ты хочешь[46]. Н. А. Бердяев в 1911 году эти два аспекта свободы противопоставил как «свободу для» и «свободу от»[47]. Обсуждение свободы в европейской философии обычно ограничивается двумя этими аспектами — вторым и третьим, по Максиму Исповеднику. Первого и главного аспекта, или определения свободы европейская философия не знает вовсе.
Итак, что же такое «легитимная власть делать то, что [зависит] от нас» (κυριότης ἔννομος τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν πρακτῶν)? — Это как раз то, что не зависит от актуального выбора, который мы делаем или не делаем. Здесь важна только сама «власть», то есть наша способность, такой выбор сделать. Эта власть должна быть у нас «легитимной» — как я попытался буквально перевести ἔννομος. Но тут этот термин имеет смысл, близкий к «врожденная» или «природная», то есть положенная нам в силу того, что мы — это мы; без нее мы бы не были «мы». Точнее сказать, каждый из нас не был бы «я». Важно, что это способность вообще «действовать», а не только выбирать. Она существует и без выбора.
3.2. Разрешение богословских загадок
Теперь мы подошли к фундаментальному отличию «самовластия» от «свободы воли» в смысле свободы именно выбора. Когда мы цитировали выше (раздел 2.2) более раннее произведение Максима (Вопросоответы к Фалассию, 42), мы имели дело с более размытой терминологией, в которой «произволение» еще не отличалось от «самовластия». Именно потому мы и получили там внешнее совпадение с богословием Аполлинария. Теперь, на основе нового понятийного аппарата, Максим спешит исправить свое собственное двусмысленное рассуждение[48]. Он объясняет, что в старой и более расплывчатой терминологии святые отцы могли называть «произволением», когда приписывали его Христу, одно из двух: либо не индивидуальную, а природную, свойственную всем людям одинаково естественную волю (этот аспект нас сейчас не интересует, поскольку он не характеризует индивидуальность Иисуса), либо — как и он сам в Вопросоответах к Фалассию, — действительно, некую способность выбора, «произволение» в новом и узком смысле этого слова, однако, воспринятое Богом «по усвоению», κατ᾿ οἰκείωσεν: «…наше собственное произволение, существующее у воплощенного Бога по усвоению» (τήν ἡμῶν αὐτῶν προαίρεσιν τῷ σαρκωθέντι θεῷ κατ᾿ οἰκείωσεν ἐνυπάρχουσαν).
«По усвоению», или, как выражается Максим в другом месте, «по относительному усвоению» (κατὰ... οἰκείωσιν... σχετικήν), означает нечто иное, нежели по самому воплощению: Максим употребляет этот термин для описания сострадания, которое оказывается близким человеком, хотя сам он в этот момент не испытывает никакого физического воздействия и не осуществляет такое воздействие[49]. Иными словами, это какое-то внешнее взятие на себя, а не принадлежность самого воплотившегося Логоса.
Посмотрим, как Максим далее объясняет действие этого «усвоения», пересказывая теперь в новых терминах знакомый нам пассаж из Вопросоответов к Фалассию, 42:
| …Что главным образом и имев в виду, твой раб и ученик в изложенных для святейшего моего господина и учителя Фалассия вопросоответах о трудных местах в Священном Писании назвал произволением — зная, что если действительно творец человеков человеком стал для нас, то ясно, что исправил нам и непреложность [т.е. неизменность] произволения (ἀτρεψίαν τῆς προαιρέσεως), будучи сам непреложности создателем, и, сущностно принимая в самом опыте по самовластию те страсти, что мы имеем как наказание, а те же — что [мы имеем] как бесчестие, человеколюбиво беря на себя по усвоению. Усвоение последних он сделал для человеческого рода причиной произвольного [т.е. выбранного произволением] бесстрастия, а опыт первых даровал как верный залог последующего нетления естества. | Ὅ δή μάλιστα σκοπήσας ὁ σός δοῦλος καί μαθητής, ἐν τοῖς πρός τόν ἁγιώτατόν μου κύριον καί διδάσκαλον περί τῶν ἀπόρων τῆς ἁγίας Γραφῆς ἐκτεθεῖσι Θαλάσσιον, εἶπον προαίρεσιν· εἰδῶς, ὡς εἴπερ ἡμῖν γέγονεν ἄνθρωπος ὁ ποιητής τῶν ἀνθρώπων, ἡμῖν δηλονότι καί τήν ἀτρεψίαν κατώρθωσε τῆς προαιρέσεως, ὡς ἀτρεψίας δημιουργός· τά μέν τῆς ἡμῶν ἐπιτιμίας δι᾿ αὐτῆς τῆς πείρας, οὐσιωδῶς κατ᾿ ἐξουσίαν πάθη δεχόμενος· τά δέ τῆς ἀτιμίας, κατ᾿ οἰκείωσιν φιλανθρώπως ἀναδεχόμενος· ὧν τήν μέν οἰκείωσιν, τῆς προαιρετικῆς ἀπαθείας αἰτίαν τῷ γένει πεποίηται· τήν δέ πεῖραν, τῆς ἑπομένης φυσικῆς ἀφθαρσίας πιστόν ἀῤῥαβῶνα δεδώρηται. |
Выходит, что способность выбирать была Христом не «воспринята» (самим актом воплощения Бога), а «усвоена» — аналогично тому, как была «усвоена» тленность естества и смерть. Всё подобное «усвоение» имело только одну цель — избавить человеческий род от всех этих болезненных и даже именно смертельно болезненных явлений.
Максим Исповедник не только не усматривает в этом рассуждении противоречия с принципом Григория Богослова «что не воспринято, то не исцелено», но дает понять, употребив чуть ниже характерное выражение, что как раз мысли самого Григория Богослова он тут развивает. Действительно, ведь это Григорий Богослов, объясняя слова Боже, Боже мой, вскую оставил мя еси? (Пс. 21:1, цитируемый в Мф. 27:46 и Мр. 15:34) и тому подобные, говорит, что Христос «в себе самом, так сказать, запечатлевает образ нашего (состояния)» (ἐν ἑαυτῷ δέ, ὅπερ εἶπον, τυποῖ τὸ ἡμέτερον). Только в этом смысле Христос оказывает послушание Отцу: «подобным образом он усваивает наше неразумие и нашу погрешительность» (ὥσπερ καὶ τὴν ἀφροσύνην ἡμῶν καὶ τὸ πλημμελὲς οἰκειούμενος)[50]. — Вот откуда Максим взял термин «усвоение».
«Свобода воли» в европейском смысле слова оборачивается не чем-то особенно хорошим, а болезнью (в ее нынешнем состоянии у людей), либо, в лучшем случае, несовершенством (у Адама до грехопадения). Христос «усваивает» такую свободу, вместе с тлением и смертью, чтобы людей от нее исцелить и освободить — ради другой свободы, той, которая принадлежит только Богу.
В обожении человек должен усвоить сам свойственную Богу непреложность произволения. Здесь ситуация оказывается симметричной ситуации Логоса: для логоса непреложность произволения (то есть отсутствие выбора зла как опции) — природное свойство, а «усваивает» он человеческое произволение как нечто внешнее. Для человека в обожении всё наоборот: природной непреложности произволения у него нет, и не потому, что он мог утратить ее в грехопадении, а потому, что ее изначально не было у Адама. Но она появляется в «усвоении» от Бога[51].
В другом месте Максим называет такое обращение людей со своей свободной волей «сдерживанием выбора»: уже тогда, после описания обожения людей, которые, по Максиму, стали обладать «единой энергией (действием, деятельностью)» с Богом, ему пришлось сделать примечание: «Пусть вас не смущает сказанное. Я сказал не о том, чтобы самовластию быть отняту, а о том, что (оно обретет) положение [θέσιν — состояние, которое не принадлежит по естеству, но приобретено] того, что по естеству твердое и неизменное, то есть сдерживание выбора» (Μὴ ταραττέτω δὲ ὑμᾶς τὸ λεγόμενον. Οὐ γὰρ ἀναίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου γένεσθαί φημι, ἀλλὰ θέσιν μᾶλλον τὴν κατὰ φύσιν παγίαν τε καὶ ἀμετάθετον, ἤγουν ἐκχώρησιν γνωμικήν)[52].
Теперь, в разбираемом у нас трактате, к этому месту также приходится возвращаться и давать дополнительные пояснения. Как может быть, чтобы у самовластия имело место «сдерживание выбора», но при этом оно само не исчезло? — Ответ Максима сводится к тому, что самовластие человеков обретает твердость и неподвижность самовластия божества «по благодати»[53]:
| Итак, я не отказал тем, кто будет это испытывать, в природной энергии, [представив ее] упокоившейся от того, что ей по природе свойственно совершать, и испытывающей только вкушение благ, но я указал на сверхсущественную силу как единственную, способную производить обожение, и по благодати ставшую принадлежностью обоженных. | Οὐκ ἀνεῖλον οὖν τὴν φυσικὴν τῶν τοῦτο πεισομένων ἐνεργείαν, ὧν ἀποτελεῖν πέφυκε πεπαυμένην, καὶ μόνην ἐμφήνας τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν πάσχουσαν· ἀλλὰ μόνην ὑπέδειξα θεώσεως ἀπεργαστικὴν τὴν ὑπερούσιον δύναμιν, κατὰ χάριν τῶν θεωθέντων γεγενημένην. |
Очевидно, самовластие человека в первом и главном смысле этого слова таким образом не нарушается: «сдерживание выбора», то есть совершенное собственным самовластием упокоение собственной природной энергии, вполне входит в понятие того, что является нашей «легитимной властью делать то, что зависит от нас».
Для византийского богословия это давало исчерпывающий ответ: человеческое во Христе и человеческое в обоженных людях выглядит одинаково, но имеет разное происхождение. Непреложность произволения у людей не бывает природной, а достигается только по благодати — причем, путем «сдерживания выбора», то есть собственной свободы как свободы выбирать между более чем одной возможностями. Симметрично этому, всякие отдельные от Логоса проявления изменчивой человеческой воли Богом восприняты «по усвоению», а не по самому воплощению.
Оба этих ответа позволяют хорошо объяснить, почему обоженные люди не становятся новыми ипостасями божества, то есть почему не происходит расширения Троицы до огромного числа всех спасенных, а также почему Христос не образовал отдельного человеческого субъекта в Иисусе. С воплощением Бога не появляется нового человеческого индивидуума — новой ипостаси человека, — но точно так же со спасением людей, ради которых это совершено, не появляется новых ипостасей божества.
Итак, у человеков — «сдерживание выбора», у воплощенного Логоса — «выбор без выбирания» (как остроумно сформулировал А. М. Шуфрин[54]). Мы, кажется, разобрались, как быть с человеческим самовластием. Но мы все равно не очень-то разобрались, как быть с человеческой субъектностью.
Мы можем заметить сейчас, что уже Григорий Богослов не включал эту субъектность в понятие того, что может быть воспринято Логосом и исцелено. Она как бы принципиально не может войти у него в понятие «что». Скажем так, она — не «нечто», ведь только нечто может быть как воспринято, так и уврачевано. В то же время, все богословские дискуссии показывают нам, насколько эта субъектность важна, и что она поэтому далеко не «ничто»[55]. Но классическая логика не предполагает ничего третьего между «ничто» и «нечто».
В этом очевидная причина той богословской путаницы, о которой мы так долго рассказывали. Вот он, принцип антропологической неопределенности во всей красе: то мы рассказываем о человеческой субъектности как о «нечто», и тогда мы упускаем из виду другую половину картины, в которой она выглядит как «ничто». Если же мы хотим описать обе картины сразу, то нам придется вводить неклассические понятия. Максим Исповедник сделал именно так, когда для понятия самовластие предложил первое из трех своих определений. А еще прежде Максима, само понятие самовластия стало специфически христианским ключевым понятием антропологии.
Идея самовластия как такой свободы, которая не вписывается в европейские представления о ней, будь то у Аристотеля или в новейшее время, — конечно, интересна, но развитие ее в патристике было стимулировано тем, что есть возможность обожения. Может быть, следует пояснить дополнительно, что речь не идет о той внутренней свободе, которой учили древние стоики или киники, несмотря даже на значительное сходство их учений с христианским. Уважаемый и христианами философ-стоик Эпиктет (ок. 55–135 по Р.Х.) был внешне рабом, но внутренне свободным. Но эта его внутренняя свобода не предполагала никакого «сдерживания выбора». Она предполагала лишь презрение к внешним объектам выбора и поэтому свободу выбора внутреннего, выбора добродетели и разума, которых от человека никто не может отнять извне. Христианская свобода-самовластие гораздо радикальнее. Она относится именно к внутреннему миру человека и даже к самой глубине его души. Она не переносит свободу выбора с поверхности вглубь, а вообще отменяет выбор — по крайней мере, в том смысле, в котором выбор считается невозможным без выбирания.
Самовластие по-настоящему осуществляется только в обожении. А по-настоящему уничтожается, то есть превращается в «ничто», — только в окончательной погибели. Если самовластие не «сдерживает» свой выбор, приобщаясь к Богу, то оно все-таки будет уничтожать само себя. Можно привести такую аналогию (я ее сам придумал, но она поясняет важную идею наших византийских авторов): если у тебя есть свобода, ты ее можешь употребить как на что-то для себя полезное, так и на то, чтобы отдать себя в рабство и лишиться этой свободы навсегда.
Об окончательной погибели сейчас скажем подробнее, так как обычно наши тексты — тот же Максим, Дионисий Ареопагит и другие, — скорее, дают понять, что именно там происходит с самовластием, нежели объясняют что-либо эксплицитно[56]. Но всё же в одном из произведений Максима Исповедника есть и прямое высказывание: там он сначала говорит о свойственном каждому из людей стремлении к Богу — чтобы составить мистическое Тело Христово. Это движение обеспечивается тем индивидуальным логосом Божиим, который имеется в каждом сотворенном существе. Это особое присутствие нетварного Бога в тварном человеке. Но затем Максим переходит к тому, как человек может себя вести вопреки имеющемуся в нем логосу Божию — как он может его потерять[57]:
| А тот, кто, упустив собственный логос, несется, вопреки логосу, к не существующему, справедливо понесет вечное осуждение, которое бывает [постольку], поскольку кто стал сам себе причиной для осуждения в теле Христовом. | Ὅστις δὲ ἀφεὶς τὸν ἴδιον λόγον παραλόγως πρὸς τὰ ἀνύπαρκτα φέρεται, δίκην δικαίως αἰωνίαν ὑφέξει τῆς γενομένης ὅσον ἐπ’ αὐτῷ μομφῆς ἐν τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ. |
Тут прямо сказано, что осуждение — вечное, но тот, кто его получит, стремится к небытию (τὰ ἀνύπαρκτα — «не существующее», лишенное существования). Любое существование дает божественный логос, действовать вопреки логосу — это действовать на собственное уничтожение. До этого места всё понятно. Но почему тогда остается кто-то, для кого осуждение вечное? Что это за вечность, не предполагающая существования?
Если мы сейчас вспомним, что наша субъектность, не являясь «ничем», все же не является также «чем-то», то мы получим приблизительную интуицию того, что нам хочет сказать Максим. Нашей следующей задачей будет превратить эту интуицию в логически эксплицитное учение.
«Выбор без выбирания», который изначально был у Христа, и к которому приходят в обожении люди, представлял для античности сложную, но не вовсе уж нерешаемую логическую проблему. На уровне логики она была очень близка проблеме субъектности, которая обсуждалась не просто чаще, но и глубже. Мы к ней и перейдем, но не сразу, а сказав сначала несколько слов о выборе без выбирания.
Можно ли выбирать, когда есть только одна возможность? Мы уже слышали и от Аристотеля, и от подавляющего большинства современных логиков, что нельзя. Но рассмотрим такую ситуацию. Петя подошел к вазе с яблоками, чтобы выбрать себе яблоко. Яблок там оказалось два, и он выбрал одно. После этого уже Ваня подошел к той же вазе с той же целью выбрать себе яблоко — но увидел там только одно яблоко, которое он и взял. Наконец, к той же вазе и с той же целью подошел Вася, и не увидел там ни одного яблока и, увы, ничего не взял.
Петя совершил выбор в хорошо известном смысле этого слова. В этом же, «аристотелевском», смысле ни Ваня, ни Вася выбора не совершали. Оба были настроены на выбор, и ни одному из них не удалось повыбирать. У них должно было быть одинаково испорченное настроение от такой неудачи — по крайней мере, если верить классической логике. У каждого из них было желание выбрать яблоко, и оно оказалось фрустрировано. Житейской опыт, однако, не располагает нас в этом случае верить классической логике. Конечно, хорошо, когда есть большой выбор яблок. Не так уж плохо, если можно выбирать хотя бы из двух. Нехорошо, когда яблок нет вообще. А большой выбор лучше малого выбора. Но ведь одно яблоко лучше, чем ничего? Не говорит ли нам наша интуиция, что и одно яблоко — очень маленький, но все-таки выбор?
Разумеется, это рассуждение психологическое, а поэтому логически нестрогое. Мы не могли в нашем мысленном эксперименте исключить интерференцию желания повыбирать и желания просто-напросто получить яблоко. Переведем его в более строгую форму, которая будет соответствовать идеальным Пете, Ване и Васе, — таким, что для них весь смысл в самой операции выбора, а яблоки как таковые им безразличны.
Пусть у нас выбор из n возможностей: a1, a2, … , an. В совокупности эти возможности составляют множество возможностей W = {a1, a2, … , an}. При n = 0 это множество будет пустым: никаких возможностей нет, выбирать не из чего. Ничто не мешает нам рассмотреть такой случай, когда n = 1, а W = {a}; такое множество, имеющее всего один элемент, называется синглетоном. При современных формализациях деонтических логик подобный случай исключается дополнительным правилом, которое следует не из логического формализма, а из личных убеждений логиков. Но если не иметь предвзятых убеждений, то нет нужды исключать синглетоны как вид множества возможностей.
Теперь мы можем строго логически объяснить, чем яблоко, оставшееся одиноко лежать после Пети, отличалось от яблока, к которому подошел Ваня. Петя подходил к вазе, представлявшей собой множество W при n = 2: W = {a1, a2}. Оба яблока были элементами множества W — и то яблоко, которое Петя забрал, и то, которое он оставил. Но Ваня подошел к вазе, которая представляла собой уже совершенно иное множество W — при n = 1. Единственное яблоко было в ней полноценным множеством-синглетоном. Оно было одновременно множеством и элементом множества. В качестве множества оно было множеством возможностей, из которых мог осуществляться выбор.
Кто знаком с дискуссиями в области базовых проблем математической логики, тот уже понял, в какие дебри мы зашли. Для остальных поясню: понятие множества, состоящего из одного члена, — внутренне противоречиво: сама идея множества предполагает многое, а не единственное. Из многого можно вычесть все элементы и получить пустое множество; это не приведет к противоречиям. Но понятие множества из одного элемента к противоречиям приводит. Отношения синглетона как множества со своим единственным элементом не поддаются описанию в классической логике: они внутренние или внешние? Если и то, и другое, то каким образом это совмещается? А если ни то, ни другое — то что тогда это вообще?
На это впервые указал в 1916 году выдающийся польский логик Станислав Лесьневски (Stanisław Leśniewski, 1886–1939), который стал основателям влиятельного направления математической логики — мереологии (от μέρος «часть»), противостоящей теориям множеств[58]. В мереологии любое целое — это просто сумма его частей. В мереологии тождество Ваниного яблока яблоку, оставшемуся после Пети, было бы гарантировано. Но математики не любят мереологию, а полюбили теории множеств.
В теориях множеств гордиев узел синглетона не разрубается так решительно, а обходится. В самой популярной теории множеств Цермело-Френкеля (1908–1921) просто заявляется (с помощью пары аксиом), что синглетонам — быть, а возникающие тут логические проблемы «обходятся» в самом буквальном смысле слова[59]. В другой популярной теории множеств (New Foundations Куайна, 1937) проблема синглетона честно отсекается заявлением а = {a} (определение так называемого атома Куайна: множество из одного элемента идентично этому элементу); так, по факту, обращаются с теорией множеств и многие нематематики (например, физики), прибегающие к услугам математики. Яблоко, оставшееся после Пети, стало бы для Вани атомом Куайна, но оставалось бы тождественным самому себе. Зато в теории Цермело-Френкеля на различии между «яблоком после Пети» и «яблоком Вани» можно было бы настаивать, но было бы невозможно объяснить, в чем оно состоит[60].
Но если не бегать от противоречий и особенно если понимать, что природа без них не обходится, то можно построить неконсистентную деонтическую логику, где понятие выбора без выбирания, или, что то же самое, выбора из только одной возможности, будет иметь смысл, вполне отличный от ситуации отсутствия выбора. Основы такой логики проработаны в византийской патристике, и мы их уже рассмотрели. Задача формального построения соответствующих деонтических операторов весьма интересна, но выходит за рамки нашей темы[61]. А мы остановились так подробно на логике выбора без выбирания только для того, чтобы лучше понять, кто является субъектом такого выбора, — кто таков тот, кто выбирает без выбирания. Для этого нам будет необходимо осознавать те противоречия, с которыми связано понятие синглетона. Ведь — забежим немного вперед — понятие «Я» — это тоже синглетон, то есть единственный элемент своего класса или множества.
Понятия выбора без выбирания и субъекта этого выбора связаны неразрывно. Как ни странно, это было осознано даже в европейской философии, причем, в лице одного из самых известных ее представителей — Фихте, — но именно эта часть учения Фихте лишь полвека назад была переоткрыта историками философии и, возможно, до сих пор еще недостаточно изучена. Мы вернемся к патристике и пониманию в ней субъектности, но нам будет легче это сделать, сказав немного о попытках решения тех же проблем в европейской философии — Нового и Новейшего времени.
4. С кем не по пути Фихте и Витгенштейну
Разговоры о «душе» или «уме» всегда, а не только в христианском богословии служили средством заболтать проблему субъектности. Это не всегда удавалось. «Душу» или «ум», или что-то другое в этом роде легко было представлять себе как объект — издали. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что за этими категориями остается нечто такое, что никак не хочет позволить обращаться с собой как с объектом[62]. На языке патристической антропологии — τὸ ἡγεμονικόν или τὸ κυριακόν, то есть то, чему принадлежит свободная воля.
В патрологии тема субъектности возникала сразу и в христологии, где она касалась не только человечества Христа, но и человечества обоженных во Христе, и в аскетике. Наивное представление о своей субъектности, своем «Я» как о некоем отдельном объекте требовало либо двухсубъектной христологии, либо отказа от признания полноты человечества во Христе. В отношении обычного человека оно вело к отрицанию учения о обожении как его понимали Григорий Богослов, Максим Исповедник и другие византийские отцы — в точности симметричного вочеловечению Бога. В аскетической практике «трезвения» (без которой о православной аскетике не приходится говорить) всё вообще оказалось завязано на отделении «трезвящегося» (наблюдающего) ума от объектов наблюдения — помыслов. Победившая в Византии антропология, оказалась, таким образом, существенно связана с какими-то особыми «необъектными» свойствами «Я». Ведь только «необъектное» «Я» может исчезать, не исчезая, — либо в «сдерживании выбора», либо в соединении с небытием…
Такая «необъектность» субъективности всегда доставляла много хлопот и философам, и, как мы видели, богословам. Не стоит удивляться, что позиция отрицания здесь какой-либо проблемы, то есть признания центра воли и мысли каким-то объектом особого рода, преобладала в античности и в западной схоластике, а в Новое время и в современной философии, хотя и оспаривалась, но завоевала, начиная с Декарта (1596–1650)[63], очень большой авторитет. Такой подход к проблеме субъекта сейчас принято называть субстанциализмом[64].
Не стоит удивляться также и тому, что параллельно развивалась и в точности противоположная идея: полное отрицание реальности субъекта человеческой воли, мысли и чувств. Это так называемый редукционистский подход[65]. В новейшей философии эту мысль впервые высказали — вопреки тому, как часто думают — вовсе не так называемые публичные интеллектуалы[66], а весьма строгие аналитические философы, причем, философы католические — как они сами себя определяли — Питер Гич (1916–2013) и его супруга Элизабет Энском (1919–2001), которой принадлежит выражение “the (deeply rooted) grammatical illusion of a subject” — «(глубоко укорененная) грамматическая иллюзия субъекта»[67]. На каком-то выходящем за пределы философии уровне эта мысль все-таки сочеталась у них с представлением о субъекте свободной воли (в свободу воли они верили) и его вечной жизни и ответственности за выбор добра или зла. В феноменологической традиции к таким же резким выводам еще раньше пришел Жан-Поль Сартр (1905–1980), особенно в докладе 1947 года, подводящем итог его исследованиям субъективности. Там он, в частности, утверждает, что « Il n’y a pas de contenu de conscience ; il n’y a pas, ce qui, à mon avis, est l’erreur de Husserl, de sujet derrière la conscience, ou une transcendance dans l’immanence » («Не существует [никакого] содержания сознания; не существует — в чем, по моему мнению, состояла ошибка Гуссерля — [никакого] субъекта позади сознания, или некоей трансцендентности в имманентности»)[68].
В философии Нового времени с резким опровержением идеи субъекта выступил Дэвид Юм (1711–1776), об атеизме которого историки философии спорят, но который, во всяком случае, был далек от каких бы то ни было форм христианства. Свой вывод о том, что собственная субъектность является иллюзией, он обосновывал недоступностью субъекта органам чувств или мысли: “…so long am I insensible to myself, and may truly be said not to exist” («…поскольку я нечувствителен к себе самому, можно справедливо сказать, что оно <myself> не существует»)[69].
Для античной мысли такой радикализм не был характерен, но он присутствовал также и в ней, причем, наиболее ясная артикуляция его принадлежит Плутарху. Соответствующий раздел его диалога О (букве) Е в Дельфах[70] не просто сохранился заботами переписчиков-христиан, но и вошел без купюр в важнейшую христианскую хрестоматию тех писаний язычников, которые, якобы, отражают те или иные моменты полученного ветхозаветного откровения о Боге, — в Евангельских приуготовлениях Евсевия Памфила, арианского епископа Кесарийского (260/265–339/340)[71]. Евсевий был одним из ближайших к императору Константину епископов, а его арианская церковь была господствующей. Когда церковная власть в империи поменялась (381 г.), его репутации христианского ученого уже ничто не угрожало, несмотря на посмертную дисквалификацию в качестве богослова.
Плутарх приводит разные толкования одной из надписей у дельфийского оракула, состоящей из единственной буквы Е. Главное его толкование построено на прочтении полного названия этой буквы (тогда она называлась дифтонгом — EI) как εἶ «еси», и это толкование относится к божеству. По контрасту объясняется, что люди, в отличие от божества, практически, не существуют: они непрерывно меняются, а изменение — это смерть старого и рождение нового, которое, впрочем, тут же умирает, уступая еще более новому. Гераклит, как пишет Плутарх, не додумал свою мысль о том, что «всё течет», и в одну реку нельзя войти дважды. Это гораздо лучше видно по нам самим: молодой человек умирает, когда появляется старый, и так далее. Страх смерти смешон, потому что мы и так все время умираем. Вчерашний человек умер ради сегодняшнего, а сегодняшний умрет ради завтрашнего. Никто из нас не остается кем-то одним[72]:
| никто не остается и не бывает (кем-то) одним, но мы становимся многими, когда материя закручивается вокруг некоей одной видимости (фантазии) и проскальзывает сквозь общую плавильную форму. | μένει δ’ οὐδεὶς οὐδ’ ἔστιν εἷς, ἀλλὰ γιγνόμεθα πολλοί, περὶ ἕν τι φάντασμα καὶ κοινὸν ἐκμαγεῖον ὕλης περιελαυνομένης καὶ ὀλισθανούσης. |
Евсевий цитирует это пространное рассуждение как иллюстрацию библейских стихов Аз есмь сый (Исх. 3:14), Аз есмь Господь Бог ваш и не пременюся (Мал. 3:6) и Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют (Пс. 101:28)[73], а мысли Плутарха о человеческой идентичности не комментирует. Но, во всяком случае, его пространная цитата из Плутарха гарантирует знакомство ученых христианских богословов с возможностью отрицания человеческой субъектности. Но, повторим, несмотря на трудности, никто из христиан не становился на такую точку зрения.
4.2. Субъект, никогда не становящийся объектом
Если не считать человеческое «Я» ни одним из объектов этого мира, ни иллюзией, то европейскому мышлению придется с ним трудновато. Европейское мышление привыкло считать ложным всё то, в чем находится противоречие. И если в области чистой мысли оно еще согласно считать, что могут быть какие-то «парадоксы», то в области реальности противоречия невыносимы. В патристике, напротив, противоречия — норма жизни не только для разговоров о Боге (что не так удивительно, так как Бог превыше как всех утверждений и отрицаний, так и всех противоречий), но и для понимания отношений с Богом у всех людей и прочих тварных существ. Григорий Богослов, как мы вскоре увидим, шел еще дальше, утверждая реальное противоречие в человеке даже безотносительно к его связи с Богом. Но все же в истории европейской мысли Новейшего времени были попытки утверждать реальные противоречия, и это не только Копенгагенская интерпретация квантовой теории. Некоторые из них относились как раз к человеческой субъектности. Мы перейдем к их обсуждению чуть позже, сначала сказав, из какого круга идей они возникли.
В новейшее время толчок в сторону субъектности был дан Кантом. Из недоступности человеческого «Я» чувствам или интроспекции (в терминологии Канта — недоступности для апперцепции самого носителя апперцепции), Кант сделал иной вывод, нежели Юм: «Я» (sich selbst) не не существует, а трансцендентно, то есть существует ноуменальным и недоступным для прямого познания образом: “Nun ist zwar sehr einleuchtend: daß ich dasjenige, was ich voraussetzen muß, um überhaupt ein Objekt zu erkennen, nicht selbst als Objekt erkennen könnte…” («Ведь действительно, совершено очевидно, что то, чем я должен предварительно располагать, чтобы вообще познать некий объект, само не может быть познано как объект»)[74]. Рассуждения Канта о ноуменальности и трансцендентности «Я» никого особо не увлекли, но его соображение относительно sich selbst («Я») как субъекта, который никогда не может становиться объектом, были приняты близко к сердцу очень многими.
Из этого выросла — может быть, относительно маргинальная, но все равно довольно большая сама по себе — традиция философской антропологии, утверждающая необъективируемую субъектность, то есть такую субъектность, такое «Я», которое даже теоретически не может быть превращено в объект рассмотрения. Первым представителем этой традиции стал Фихте (1762–1814) — в этой части своего учения непонятный современниками и надолго забытый. Фихте зашел настолько далеко, что о нем нам придется ниже сказать о нем подробнее. Его не поняли именно потому, что он позволил себе мыслить противоречиями. Остальные мыслители XIX века, находившиеся в традиции немецкого идеализма или под влиянием немецких романтиков, по крайней мере, заявляли о нередуцируемой субъектности, хотя и не давали положительных объяснений, что же это такое. Новый всплеск интереса к теме возник в феноменологической традиции, идущей даже не от Гуссерля, но еще от Франца Брентано (1838–1917), и, еще позже, в современной аналитической философии. Феноменологи переоткрыли некоторые идеи Фихте, ничего не зная о нем как своем предшественнике[75]. «Переоткрытие» самого Фихте осуществил в 1960-е годы Дитер Хенрих (Dieter Henrich, род. в 1927), создавший целое направление в современной немецкой философии[76].
Все эти философы более-менее определенно настаивали на том, что субъектность человека не может быть трансформирована в объект. В этой «негативной» части своих утверждений они сближались, а при попытках объяснить позитивно, что же такое субъект, — расходились, подвергая друг друга взаимно аннигилирующей критике, или вовсе отказывались давать подобные пояснения[77]. Как мы уже упоминали в связи с Сартром и его полемикой против идеи Гуссерля о «трансцендентном ego» (раздел 4.2), даже в рамках «не объективизирующего» подхода и даже внутри только лишь феноменологической традиции не было единства по вопросу о реальности субъекта как такового.
Общим для всех этих философов, кроме упомянутого выше Фихте и пока что не упоминавшегося Витгенштейна (1889–1951), была непреодолимая боязнь переступить через противоречие — то есть принять неконсистентную концепцию субъекта. Я тут выделил слово «непреодолимая», так как в подобной боязни, вообще говоря, нет ничего предосудительного. Но, как мог бы выразиться Нильс Бор, чем более фундаментальны обсуждаемые нами истины, тем менее разумно подходить к ним с нашими собственными предвзятыми концепциями относительно того, что «бывает» и что «не бывает».
5. Око ума: авва Виссарион, Фихте и Витгенштейн (и Нильс Бор)
5.1. Авва Виссарион, о Боге которого ничего не знали философы
| Авва Виссарион сказал, умирая: монах должен быть, как херувимы и серафимы — весь око. | Ὁ ἀββᾶ Βισσαρίων ἀποθνήσκων ἔλεγεν ὅτι· Ὀφείλει ὁ μοναχὸς εἶναι ὡς τὰ Χειρουβὶμ καὶ τὰ Σεραφὶμ ὅλος ὀφθαλμός. |
Это изречение одного из создателей египетского монашества относится к середине или концу IV века[78]. Оно отсылает к видению Иезекиилем многоочитых ангелов (Иез. 1:18), но говорит о человеке, который должен вести жизнь ангельскую.
Глаз, в который должен целиком превратиться обоженный человек, сам заполняется божественным светом и сам становится светом — о чем говорит другое, тоже классическое и общеизвестное, монашеское произведение конца IV века, дошедшее под именем Макария Великого (Египетского)[79]. Вполне возможно, что автор этого поучения знал изречение аввы Виссариона, но хоть бы и не знал — его слова служат к нему прекрасным комментарием. Комментарием тем более прекрасным для наших целей, что автор использует язык геометрии (топологии), который всегда поддается точному переводу на абстрактный язык логики (такой перевод нам понадобится в разделе 6.2):
| Ибо душа, которую Дух удостоил причаститься света своего и осиял красотою неизреченной славы своей, уготовал ее в седалище и обитель себе, делается вся светом, вся — ликом, вся — оком; нет у нее ни одной части, не исполненной духовных очей света, то есть ничего омраченного, но вся она всецело соделана светом и духом, вся исполнена очей [и вся есть лик — добавлено в собрании Ι], не имея никакой последней или задней стороны, но отовсюду представляется ликом, потому что снизошла на нее и восседает неизреченная красота славы света Христова. | ψυχὴ γὰρ ἡ καταξιωθεῖσα κοινωνῆσαι τῷ πνεύματι τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ καταλαμφθεῖσα ὑπὸ τοῦ κάλλους τῆς ἀρρήτου δόξης αὐτοῦ, ἑτοιμάσαντος αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς καθέδραν καὶ οἰκητήριον, ὅλη φῶς γίνεται καὶ ὅλη πρόσωπον καὶ ὅλη ὀφθαλμός· καὶ οὐδὲν αὐτῆς μέρος μὴ γέμον τῶν πνευματικῶν ὀφθαλμῶν τοῦ φωτός, τουτέστιν οὐδὲν ἐσκοτισμένον, ἀλλ’ ὅλη δι’ ὅλου φῶς καὶ πνεῦμα ἀπεργασθεῖσα καὶ ὅλη ὀφθαλμῶν γέμουσα [καὶ ὅλη πρόσωπον οὖσα — добавлено в собрании I], μὴ ἔχουσα δὲ ὕστερόν τι ἢ ὄπισθεν μέρος, ἀλλὰ πάντῃ κατὰ πρόσωπον τυγχάνει οὖσα ἐπιβεβηκότος ἐπ’ αὐτὴν καὶ ἐπικαθεσθέντος τοῦ ἀρρήτου κάλλους τῆς δόξης τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ. |
Так происходит обожение, но оно происходит именно так потому, в частности, что таков человек. В обычном состоянии у него есть глаз, даже не один, но сам он еще не стал весь глазом; у него есть лицо — но сам он не весь лицо; и уж точно он не односторонен — в том смысле, что у него есть не только передняя, но и задняя сторона. В состоянии обожения эта топология человека меняется окончательно. Но это возможно потому, что его начальная топология неокончательна: она подвижна, хотя и необязательно ведет к заполнению человека светом. Мы уже прочитали у Максима Исповедника (выше, раздел 1.4), что человека может заполнять и небытие…
Автор Corpus Macarianum предлагает нам не просто неевклидову геометрию и, тем паче, не объемные тела вроде ленты Мебиуса или бутылки Клейна, которые хотя и имеют только одну поверхность, но вполне евклидовы, и в них всегда можно назначить одну часть передней, а другую задней. Геометрии Лобачевского и Римана консистентны и ни в чем для нас существенном не отличаются от геометрии Евклида; все такие геометрии не подходят для визуализации описанного нашим древним автором. Он предлагает нам нечто совсем иное — фигуры из неконсистентной геометрии; соответствующие пропозициональные алгебры будут не Булевыми, и вообще соответствующие логики — неконсистентными. Мы к этому вернемся, а пока достаточно просто запомнить, что строй мышления целевой аудитории византийской аскетики — как и догматики — делал способность мыслить противоречиями обязательным условием понимания. Нам еще предстоит разобраться, о каких конкретно противоречиях тут идет речь.
Такое устройство человека, которое делает возможным то, что описывает Макарий-Симеон, заметили и некоторые нехристианские философы, каковы были Иоганн-Готлиб Фихте[80] и Людвиг Витгенштейн, и их рассуждения могут помочь сегодня понять византийских отцов. Но понять их всех вместе нам может помочь поэт — Елена Шварц (1948–2010). Она говорит о поэзии, но не забывая о Иезекииле. Деятельность поэта, особенно поэта-философа, каковым была она, не так уж далека от деятельности философа обыкновенного. Она написала свою краткую версию L’art poétique Буало (в свою очередь, реплики Ars poetica Горация) — о ремесле поэта, — которая заканчивается так[81]:
…Поэт есть глаз, — узнаешь ты потом, —
мгновенье связанный с ревущим Божеством.
Глаз выдранный — на ниточке кровавой,
на миг вместивший мира боль и славу.
5.2. Глаз в глаз с Уранией: Фихте
В трактовке субъектности Фихте и Витгенштейн (который в те ранние свои годы вряд ли читал Фихте) оба заговорили о глазах, и даже именно об одном глазе. Их к этому привела та же логика, пусть и не совсем то же вдохновение, что и авву Виссариона. Начнем с Фихте[82].
А Фихте начал с проблемы, поставленной его учителем Кантом, — о неизбежной рефлексивности, связанной с понятием субъекта: говоря о себе, приходится думать о себе, как об объекте, но при этом ты не перестаешь быть субъектом. Не всякому философу посилен подвиг современника Канта барона Мюнхгаузена (1720–1797), который вытащил себя за волосы из болота, — таким образом победив парадоксы автореференции. Кант сдался перед парадоксами, отправив субъекта в недоступную созерцанию область Ding an sich. Фихте это посчитал чем-то вроде решения проблем посредством укрывания с головой под одеяло, и решил с парадоксами подружиться.
Фихте признал тождество субъекта и объекта и даже ввел особый термин — «субъект-объект»: «Ich ist nothwendig Identität des Subjects und Objects: Subject-Object» («Я — это необходимым образом (существующая) идентичность субъекта и объекта: субъкт-объект»)[83]. Такое «Я» он описывает как, в то же время, и некую «силу» (Kraft), и тут у него тоже появляется «глаз»[84]. «Я» состоит в «идентичности созерцания и действия» («Identität des Schauens und Handelns, also Ich»); оно является «силой, в которую установлен глаз, от нее неотделимый; будучи силой глаза, она — характер Я и интеллектуальной деятельности» («Kraft, der ein Auge eingesetzt ist, welches von ihr unzertrennlich; Kraft eines Auges, dies ist der Charakter des Ich und der Geistigkeit»[85]).
«Сила», о которой тут говорит Фихте, не может нам не напомнить Максимову «легитимную власть делать то, что (зависит) от нас» (κυριότης ἔννομος τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν πρακτῶν), с которой мы познакомились выше (раздел 3.1). И действительно, у Фихте разовьется необычное для европейской мысли понимание свободы — но об этом чуть позже.
Образ глаза у Фихте недвусмысленно отсылает к религиозному опыту. В августе 1812 года Фихте записал свой сон, в котором он увидел «глаз, созерцающий сам себя», и истолковал это как отражение жизни и «откровения самого себя» (“eines sich selbst Offenbarens”)[86]. Еще яснее об этом — в сонете, опубликованном Фихте анонимно в 1805 году и написанном, видимо, незадолго до этого[87]:
| Was meinem Auge diese Kraft gegeben,
Dass alle Misgestalt ihm ist zerronnen, Dass ihm die Nächte werden heitre Sonnen, Unordnung Ordnung, und Verwesung Leben?
Was durch der Zeit, des Raums verworr’nes Weben Mich sicher leitet hin zum ew’gen Bronnen Des Schönen, Wahren, Guten und der Wonnen, Und drin vernichtend eintaucht all’ mein Streben? —
Das ist’s. Seit in Urania’s Aug’, die tiefe Sich selber klare, blaue, stille, reine Lichtflamm’, ich selber still hineingesehen;
Seitdem ruht dieses Aug’ mir in der Tiefe Und ist in meinem Seyn, — das ewig Eine, Lebt mir im Leben, sieht in meinem Sehen. |
Этот «мой» глаз — принадлежит Урании, музе астрономии и символу неба, то есть божества. Мое неуловимое «Я» оказывается пребыванием божества во мне.
Мы не будем забывать, что представление Фихте о божестве нехристианское, но не можем не отметить структурное (логическое) сходство между таким представлением «Я» и византийским учением об уме как «части божества». Однако, в византийском учении было различие четырех состояний (начального, среднего — когда совершенство обожения еще не достигнуто, — и конечного совершенства, но также и конечного отпадения)[88], а у Фихте лишь количественное стремление к совершенству — в рамках одного и того же онтологического модального состояния.
Божество Фихте было противоположно отдаленному от земной реальности Богу деизма, поскольку соединялось с человеком как нельзя более тесно. Но оставалась все время некоторая неопределенность относительно того, сколько там этого Бога остается за пределами человека[89]. Теизм Фихте внушал некоторым современникам сильные подозрения в атеизме, и это стоило ему университетской карьеры в Йене — но, в то же время, стимулировало развитие его собственного философско-богословского учения[90].
Все эти подробности богословия Фихте мало кого интересовали среди немецких философов, а потому и почти не вызывали дискуссий. Зато они в полной мере столкнулись с традиционным христианством на испанской почве.
5.3. «Панэнтеизм»: Фихте и Краузе
Для немецкой философской среды Фихте был чрезмерно религиозен, но у него был один последователь, бывший слушатель его лекций, который сделал темой всей своей жизни развитие этих малопопулярных в Германии идей, — Карл-Христиан Фридрих Краузе (1781–1832). Это именно он придумал название для отношений Бога и мира по Фихте: панэнтеизм — в противопоставление «пантеизму». Если пантеизм считает Богом весь мир, то панэнтеизм полагает, что Бог трансцендентен миру, но, в то же время, имманентен ему: в мире Бога нет, но, в то же время, Бог везде и во всем[91]. Это прямое противоречие, но нельзя не заметить, насколько оно созвучно византийскому представлению о неприступности Бога и при этом вездеприсутствии Бога через нетварные энергии (хотя, повторим, у византийских авторов идет о другом Боге, нежели у Фихте и Краузе). После смерти Краузе в Германии оставался лишь небольшой и довольно изолированный кружок его последователей, хотя термин «панэнтеизм» приобрел более широкое распространение.
В начале ХХ века термин «панэнтеизм» через третьи руки дошел до философов так называемого русского религиозного ренессанса (особенно С. Л. Франка и С. Н. Булгакова)[92] и таким образом получил новую жизнь в совершенно другом богословии — одинаково далеко отстоящем и от Фихте, и от Византии.
Особая судьба оказалась уготована наследию Краузе в Испании, а затем и во всех латиноамериканских странах. Начиная со второй половины XIX века и до нашего времени «краузизм» — el krausismo — остается одной из самых влиятельных там философских систем, воздействовавших на едва ли не большинство интеллектуалов испаноязычного мира, особенно искателей социальной справедливости[93]. Наиболее заметным критиком Краузе в Испании стал католический философ-томист Хуан Мануэль Орти-и-Лара (1826–1904), который пришел к выводу, что «…в школе Краузе единство человека с Богом — это идентичность последних двух терминов, а точнее, это очеловечивание Бога и обожение человека; это, в итоге, религия атеизма»[94]. Философ-томист не остался бы доволен и византийским учением о обожении, но здесь он совершенно точно указал, что Краузе «обоживает» человека таким, каков он есть, а Бог у него низводится до чего-то слишком уж человеческого. Всё это испанский философ мог бы сказать и о Фихте.
5.4. Свобода воли по ту сторону выбора
Теперь вернемся к понятию свободы, которое Фихте, а за ним Краузе разрабатывали, исходя из такого своеобразного понимания субъекта этой свободы.
Подобно Максиму Исповеднику, Фихте отказывается считать подлинной свободой свободу выбора (Willkür), которую он называет «формальной свободой» (formale Freiheit). Глубинная и подлинная свобода является «чистым влечением» (reiner Trieb), но в реальных действиях индивида она смешивается с «природными влечениями» (Natur-triebe), образуя таким образом «смешанное влечение» (gemischter Trieb). Результирующая деятельность оказывается направленной к победе над «природными влечениями» и к абсолютной свободе, но абсолютная свобода остается при этом недостижимым идеалом[95].
Дальнейшее развитие этих мыслей мы находим — как выяснилось лишь в ХХ веке — в новой редакции курса Наукоучения (Wissenschaftslehre nova methodo), который он читал в Йене непосредственно перед изгнанием из университета (1796–1799)[96]. Только в ХХ веке были введены в научный оборот два дополняющих друг друга студенческих конспекта, причем, один из них был сделан как раз известным нам Краузе (впервые полностью изданы, соответственно, в 1978 и 1982 годах)[97].
Рассуждения, которые приводит Фихте в пользу свободы по ту сторону выбора, весьма похожи на те, что мы приводили выше (раздел 3.4). Он начинает с очевидной констатации: чтобы осуществить выбор, я должен иметь перед собой некую множественность (Vielheit). Но для «идеальной деятельности» (ideale Tätigkeit) нужно нечто иное: должно существовать «такое состояние ума/мышления (Gemüt), при котором он является «только единством и идентичностью» (nur Einheit und Gleichheit — по контексту, последний термин означает не «сходство», а именно «идентичность»), без всякой примеси множественности[98]. Идеальной активности должно соответствовать особое влечение, или «идеальное влечение», поскольку и «Я» по природе является влечением. Такое влечение невозможно почувствовать ([e]in solcher Trieb kann nicht gefühlt werden), но оно дается в непосредственной интуиции. «Таким образом, нечто постигается интуицией просто потому, что оно постигается интуицией (Es wird also angeschaut, weil angeschaut wird)».
«Идеальное влечение» (по смыслу, это то же самое, что «чистое влечение», в чуть более ранней терминологии Фихте) порождает свободную деятельность, а не чувственные ощущения. Отличие принципиально, потому что «…идеальная деятельность имеет характер свободной, а чувство, напротив, является страдательным/пассивным состоянием (Es kommt der idealen Tätigkeit der Charakter der Freiheit der Tätigkeit zu, da das Gefühl im Gegenteil ein Leiden ist)». «Реальная деятельность» связана с чувствами и несвободой, но все-таки она образуется на основе деятельности идеальной. А эта идеальная деятельность — свободна, но лишь потому и постольку, поскольку она приписывается «Я» (Der Charakter der Freiheit kann der idealen Tätigkeit nicht zukommen, außer in wiefern das Ich sich diese Tätigkeit zuschreibt)[99].
Итак, существует некая недоступная чувствам, но интуитивно постигаемая активность «Я», которая и является подлинной свободой, не зависящей от пассивности, связанной с чувственными восприятиями, и не связанной с множественностью, а, тем самым, и с понятием выбора (в привычном смысле этого слова — когда для выбора требуется множественность).
Глубинная свобода человеку уже дана, а не «задана»: она уже актуальна, а не потенциальна. И это происходит вследствие того, что носитель этой свободы — «Я» — одновременно субъект и объект. Неконсистентное понимание субъекта приводит к неконсистентному пониманию свободы воли. Мы это видели и в патристике, особенно у Максима Исповедника, хотя и в контексте совершенно иного богословия.
По всей видимости, рассуждения Краузе о том, что «свобода, которой обладаю я, есть свобода Бога»[100], вполне аутентично развивают идеи Фихте. В патристике, как мы видели, это устроено не так просто: свобода Бога человеку доступна, но лишь в обожении, то есть ее надо сначала потрудиться достигнуть. В эмпирической данности это не так, и поэтому антропологические воззрения Фихте и Краузе представляются слишком оптимистическими. Особенно утопичными выглядят построенные на такой антропологии социальные воззрения Краузе (относительно возможности социальной «гармонии» — излюбленный его термин), которые — на более поздних стадиях «краузизма» — могли легко трансформироваться в тоталитарные идеологии латиноамериканских режимов, до кубинского включительно.
Поставленный Кантом вопрос о субъекте получил альтернативное Фихте и, казалось бы, более известное решение в философии Гегеля. По-видимому, аутентичное учение Гегеля тоже предполагало реальные противоречия, а позднейшая популярность «гегельянства» была сопряжена с тривиализацией, то есть выхолащиванием этого аспекта гегелевской диалектики[101]. Но, как бы то ни было, Гегель, в отличие от Фихте, не отождествил субъекта и объекта в «Я», а продолжал рассматривать их отдельно (как и ранний Фихте, когда у него вместо «глаза» было «зеркало») и рассуждать об их диалектике, а свобода у него не была данностью, а лишь подлежала актуализации[102].
5.5. Витгенштейн: «Я» как граница между миром и ничто
Концепция субъективности у Витгенштейна довольно редко излагается без «упрощениий» (то есть тривиализации) и, кажется, взятая в своем аутентичном виде, почти не имеет сторонников и последователей среди современных философов. О ее очень близком формальном сходстве с византийским патристическим учением мне уже приходилось писать в другом месте[103]. Здесь я только повторю кратко самое основное.
Перефразируя одного замечательного исследователя философии Витгенштейна, который, в свою очередь, перефразировал его самого, можно сказать, что «Я» для Витгенштейна — не есть «нечто», но не есть и «ничто»[104].
«Я» не является одним из объектов этого мира. Но если соответствующие заявления Витгенштейна вырвать из контекста, то получится грубая ошибка в реконструкции его понимания субъективности. Не быть «чем-то» в мире еще не означает не быть вообще. «Я» — это «граница» (Grenze) мира, разделяющая мир и ничто. Отличая метафизический, или философский субъект от психологического (субъекта ощущений), Витгенштейн заявляет о метафизическом: Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt «Субъект не относится к миру, но он является границей мира»[105]. Так как «мир», согласно первому тезису Логико-философского трактата, это и есть всё,[106] то граничить он может только с ничто.
Совсем определенно Витгенштейн выражается в Трактате, 5.641[107]:
| Философское «Я» не является ни человеческим существом, ни человеческим телом или человеческой душой, которой занимается психология, но является метафизическим субъектом, границей — но не частью — мира. | Das philosophische Ich ist nicht Mensch, nicht der menschliche Körper, oder die menschliche Seele, von der die Psychologie handelt, sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze — nicht ein Teil — der Welt. |
Уже в Трактате (5.633) у Витгенштейна появляется образ глаза: «метафизический субъект» уподобляется глазу, который не видит сам себя, так как не находится в своем поле зрения. В авторских конспектах к лекциям 1933–1934 годов (The Blue Book) появляется еще одно определение: «Я» — это «геометрический глаз» (the geometrical eye), отличающийся от обычного «физического глаза»[108].
У этих мыслей Витгенштейна прослеживаются корни в немецком идеализме (особенно Шлейермахера), причем, даже квазирелигиозные: в одной из предшествующих Трактату дневниковых записей 1915 года он отождествляет собственное «Я» с «мировой душой»[109]. В зрелые годы Витгенштейн не думал о мировой душе, но мы так и не знаем, какой именно онтологии он придерживался, и в чем конкретно состояли его взгляды. Он предпочитал говорить вслух только о логике.
Витгенштейн сознательно сопротивлялся, чтобы не допустить в свою логику противоречия, но у него это плохо получалось, особенно в чем-то главном. Так, он понимал, что его «Я», если понимать его непротиворечиво, это «Я» солипсизма, но он выбрал противоречие (Tractatus 5.64)[110]:
| «Я» солипсизма стягивается в точку без протяжения, и остается реальность, которая координирована с ним. | Das Ich des Solipsismus schrumpft zum ausdehnungslosen Punkt zusammen, und es bleibt die ihm koordinierte Realität. |
Солипсизм одновременно получается прав и неправ, причем, не так, чтобы в чем-то прав, а в чем-то неправ, а именно сразу во всем прав и во всем неправ. Такое понимание «Я» не может не подразумевать какой-то специфической онтологии.
Конечно, дискурс Витгенштейна был вполне осознанно, хотя и замаскированно религиозным. Он сам честно признавался, развивая только что процитированный тезис (в Tractatus, 6.45)[111]:
| Рассмотрение мира sub specie aeterni («с точки зрения вечности») есть его рассмотрение как — ограниченного — целого. Чувство мира как ограниченного целого — это мистическое. | Die Anschauung der Welt sub specie aeterni ist ihre Anschauung als – begrenztes – Ganzes. Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes ist das mystische. |
Легко понять, почему такое рассмотрение мира относится к области мистического: видя мир как целое и ограниченное, мы выходим за пределы этого мира. Мы должны либо посчитать саму эту операцию иллюзорной, или признать наличие области «мистического».
Элизабет Энском, предельно деликатная ученица и католический оппонент Витгенштейна, заметила по этому поводу, причем, явно автобиографически: «От такой концепции очень трудно избавиться, коль скоро она у тебя возникла», но «…могут быть очень серьезные причины этого захотеть: например, может показаться, что она делает Я чересчур богоподобным»[112]. Похожие мотивы мы уже встречали в критике Краузе со стороны его католического оппонента.
Еще раз повторим, что в своем (пусть и неизвестном нам) понимании божественного Витгенштейн точно не был ближе к византийскому богословию, чем Фихте и Краузе. Но мы сейчас сосредоточиваем внимание не собственно на богословии, а на логике, которая ему служит. И здесь находим важное сходство.
Уже в католической традиции — но, конечно, в традиции так называемой мистики, а не «школьного богословия» — мы можем вспомнить стихотворение Ангела Силезского Круг в точке (Der Kreis im Punkte)[113]:
| Когда Бог лежал сокрытым во утробе девичей,
Тогда было так, что точка заключила в себе круг. |
Als Gott verborgen lag in eines Mägdleins Schoß,
Da war es, da der Punkt den Kreis in sich beschloß. |
И, наконец, в византийской традиции нельзя не вспомнить важнейшую монашескую максиму, сформулированную в конце IV века Евагрием[114]: Μοναχός ἐστιν, ὁ πάντων χωρισθεὶς καὶ πᾶσι συνηρμοσμένος «Монах есть тот, кто от всего [или от всех] отделен, но со всем [или со всеми] связан». Эхо такого определения звучит у Витгенштейна в словах о «Я» солипсизма: оно должно бы — в непротиворечивой логике — исключать существование мира, но мир остается, причем, остается «координированным» с этим «Я».
5.6. Гельмгольц: философия ученых вместо философии философов
Трактовка субъектности у Витгенштейна не пришлась ко двору европейской профессиональной философии ХХ века. Но европейская философия к тому времени уже привычным образом разделялась на философию философов и философию ученых, особенно естествоиспытателей, которые потеряли общий язык еще где-то во времена Шеллинга и Гегеля. — По крайней мере, так эту хронологию восстанавливал по свежим следам великий физиолог и выдающийся философ науки Герман фон Гельмгольц (1821–1894) в своем докладе 1855 года.
Согласно Гельмгольцу, «принципиальный раскол, разделяющий теперь философию и естествознание» (Die prinzipielle Spaltung, welche jetzt Philosophie und Naturwissenschaft trennt), не существовал ни в эпоху Канта, ни при жизни Фихте, которого Гельмгольц особенно хвалит («при всей отчужденности и резкости его противопоставления себя обыденному мировоззрению» — so fremd und schroff er sich auch der gemeinen Anschauungsweise der Welt entgegenstellt), но после смерти Фихте был создан Шеллингом и Гегелем, новыми властителями дум. Это вызвало резкое отторжение со стороны ученых. «Философия предъявляла притязания на все. Теперь ей едва готовы уступить даже то, что могло бы ей принадлежать по праву» (Die Philosophie hatte Alles in Anspruch nehmen wollen; jetzt ist man kaum noch geneigt, ihr einzuräumen, was ihr wohl mit Recht zukommen möchte). По-человечески понятно, хотя и несправедливо, что «новейшие философские системы» (то есть Шеллинга и Гегеля) смешиваются с философией, и что недоверие, направленное против упомянутых систем, распространяется на всю науку (философии)» (…die jüngsten Systeme der Philosophie mit der Philosophie überhaupt verwechselte, und das Misstrauen gegen jene auf die ganze Wissenschaft übertrug). Гельмгольц заканчивает оптимистическим выводом-прогнозом, который сбылся, но вряд ли так, как надеялся Гельмгольц: «…противоречие между философией и естествознанием относится не ко всякой философии вообще, но лишь к известным новейшим системам философии, и… всеобщая связь, которая должна соединять все науки, ни мало не разорвана новейшим естествознанием» (…der Gegensatz zwischen Philosophie und Naturwissenschaften sich nicht auf alle Philosophie überhaupt, sondern nur auf gewisse neuere Systeme der Philosophie bezieht, und… das gemeinsame Band, welches alle Wissenschaften verbinden soll, keineswegs durch die neuere Naturwissenschaft zerrissen ist)[115].
К последнему заявлению Гельмгольца теперь, глядя из будущего, можно сделать дополнение: естествознание не потеряет связи с философией, но с профессиональными философами — еще долго не восстановит. Теперь ученым придется делать свою философию самим — вот как раз так, как это и начал одним из первых Гельмгольц. Поэтому если мы сегодня говорим о европейской философии XIX–XX веков, то было бы нелепо ограничивать себя философами, которые числились философами по месту службы, и не замечать того, что — совершенно отдельно от них — делали философы-ученые, специалисты в разнообразных конкретных науках и особенно в естествознании.
5.7. Нильс Бор о неконсистентности свободной воли
Философы-ученые бывали свободнее от философских предрассудков своей эпохи. Пусть и пытаясь время от времени установить диалог с философами, ученые все-таки делали свое дело и создавали свою собственную философию. Ярчайшей фигурой в этом ряду стал Нильс Бор, главный вдохновитель всего проекта квантовой механики. Этот проект с самого начала (с опубликованного Бором в 1913 году квантового постулата) строился как существенная корректировка общепринятого представления о природе физической реальности, а заодно и реальности как таковой.
После 1926 года (публикации принципа неопределенности Гейзенберга) Нильс Бор настаивал, что принцип неопределенности в квантовой механике — частный случай того, что он назвал принципом дополнительности, который является фундаментальным для устройства нашего мира в целом[116]. Творцам квантовой теории и ее Копенгагенской интерпретации оказалось почти не о чем говорить с современными им философами, и они предпочли искать собеседников и вдохновителей среди философов древности, особенно индийских и китайских[117]; о византийской патристике они ничего не знали.
Вся концепция квантовой физики оказалась связанной с переопределением понятий субъекта и объекта. Физики с благодарностью вспоминали Канта, указавшего на их неразрывность, но дальше творцам квантовой теории пришлось думать самим, с неизбежными в таком случае выходами за пределы физики. Одной из таких проблем оказалась свобода воли и человеческая субъектность — ведь квантовая механика разрушила механистическое представление о детерминизме, которое тогда господствовало во всех науках и в философии.
В своей первой философской статье «Квант действия и описание природы», опубликованной в 1929 году, Бор приходит к такому выводу о субъекте, который должен нам напомнить концепцию Витгенштейна. В реальной жизни Бор и Витгенштейн не взаимодействовали (Бор мог даже не знать о существовании Витгенштейна, хотя обратное не может быть верным), но в этой области, как и в некоторых других, их рассуждения очень близки[118].
Механистическое представление о детерминизме актов человеческой психики, замечает Бор, основано на воображаемой возможности проследить все причинно-следственные связи в процессах, имеющих место в мозге. Эта возможность подразумевается недоступной только технически, но не теоретически. Однако она должна быть признана недоступной также и теоретически, поскольку любое наблюдение подобных процессов окажется вмешательством в их протекание. Возможность наблюдения без участия — иллюзия. Можно заметить, что тут Бор повторяет, mutatis mutandis, аргументацию Канта[119]. Но вывод он делает свой — в пользу того, что тут проявляется принцип дополнительности[120]:
| При рассмотрении контраста между интуицией свободной воли, которая руководит душевной жизнью, и, как кажется, непрерывной каузальной цепочки сопровождающих ее физиологических процессов, философы/мыслители (англ./нем.) не упустили из внимания мысль о том, что мы здесь можем иметь дело с невизуализируемым отношением дополнительности. | In Betracht des Kontrastes zwischen dem Gefühl des
freien Willens, das das Geistesleben beherrscht, und des scheinbar
ununterbrochenen Ursachszusammenhanges
der begleitenden physiologischen Prozesse ist es ja den Denkern nicht entgangen, daß es sich hier um ein unanschauliches Komplementaritatsverhaltnis handeln kann. |
When considering the contrast
between the feeling of free will, which governs the psychic life, and the apparently uninterrupted causal chain of the accompanying physiological processes, the thought has, indeed, not eluded philosophers that we may be concerned here with an unvisualizable relation of complementarity. |
При всей близости этого рассуждения к Канту, Бор далек от признания Ding an sich и выбирает вместо этого неконсистентную картину. Существует свобода воли и ее субъект — но это постигается субъективной же интуицией. Если же постараться всё это объективизировать, то карета превращается в тыкву — свобода в детерминизм физиологических процессов. Тем не менее, невозможность объективизации не означает нереальности. В этом состоит принцип дополнительности, который тут сформулирован очень близко к идеям Логико-философского трактата — чуть более ранним, но Бору ни тогда, ни, видимо, никогда неизвестных.
Субъект реален в том же смысле, что и микрочастица: на него нельзя посмотреть «объективно», но он есть. Это не совсем то, что мы выше назвали принципом антропологической неопределенности: мы тогда рассуждали о человеке в отношении к «Богу в человеке», а здесь речь идет об отношении человека просто к реальности, частью которой он сам является. И там, и там, однако, действует то логическое соотношение, которое Бор назвал принципом дополнительности, и которое предполагает неконсистентность соответствующей логики.
6. Патристические уроки неконсистентной логики
6.1. Григорий Богослов о логиках с противоречиями
В византийской патристике мы обычно встречаем практическое использование неконсистентных логик, а рассуждения о подобных логиках в чистом виде крайне редки. Тем важнее одно из таких подробных рассуждений у Григория Богослова (Слово 29, О Сыне, 9)[121]. Контекст — спор о Святой Троице с одним из крайних сторонников консистентного богословия, Евномием (ок. 333–ок. 394). Григорий проповедовал летом или осенью 380 года перед аудиторией своих немногочисленных единоверцев в маленькой церкви, оборудованной в частном доме, когда все церкви Константинополя занимали ариане.
Евномий отстаивал самую последовательную форму арианства: Сын не только не разделяет божественную природу Отца, но и даже не имеет подобия Ему. Григорий отвечает на следующий аргумент Евномия: если Сын рожден, то либо Он рожден после Отца, а поэтому не является Богом (арианское учение), либо Отец родил того, кто был уже до собственного рождения (что абсурд). Григорий в ответ доказывает, что здесь тот случай, когда оба противоположных утверждения оказываются ложными. Для этого он останавливается и на собственно логической проблеме: действительно ли возможны случаи, когда оба противоположных утверждения являются ложными. Доказывая принципиальную возможность такой ситуации, он говорит также и о случае, когда оба противоположных утверждения оказываются одновременно истинными в одном и том же смысле. И при всем этом он, к тому же, касается неконсистентности понятия субъекта.
Тут сразу возникает очень пикантный момент: Григорий не просто утверждает допустимость противоречий в богословии, но подкрепляет свое рассуждение куда более спорным тезисом — о наличии противоречий в нашей обыденной реальности. Это пойдет против светского философского мейнстрима самой же Византии.
Вот его рассуждение:
| И в этом [высказывании]: «я сейчас лгу», уступи что-нибудь одно только, то есть признай его или истинным, или ложным. Мы не уступим того и другого вместе, но это неприемлемо: ибо, по всей необходимости, или лгущий скажет правду, или говорящий правду солжет. Что ж удивительного? Как здесь сходятся противоположности, так и там обоим положениям быть ложными? А таким образом, и мудрое твое окажется глупым. Но реши мне еще одну загадку. Присутствовал ли ты сам при себе, когда рождался? присутствуешь ли теперь? или ни то, ни другое [т.е. и тогда не присутствовал, и теперь не присутствуешь]? Но если присутствовал и присутствуешь, то в качестве кого и при ком (именно)? Как один стал тем и другим? А если ничто из сказанного [т.е. не присутствовал и не присутствуешь], то как отделяешься от самого себя? И какая причина этого разлучения? Но [ты скажешь:] допытываться об одном [т.е. индивидууме], присутствует ли он при себе, или нет — это невежественно; так можно говорить о других, а не о себе. | Τοῦ δέ· « Νῦν ἐγὼ ψεύδομαι », δὸς τὸ ἕτερον, ἢ ἀληθεύσθαι μόνον, ἢ ψεύδεσθαι· οὐ γὰρ ἀμφότερα δώσομεν, ἀλλ’ οὐκ ἐνδέχεται· ἢ γὰρ ψευδόμενος ἀληθεύσει, ἢ ἀληθεύων ψεύσεται· πᾶσα ἀνάγκη. Τί οὖν θαυμαστόν ; ὥσπερ ἐνταῦθα συμβαίνει τὰ ἐναντία, οὕτως ἐκεῖσε ἀμφότερα ψεύδεσθαι, καὶ οὕτω σοι τὸ σοφὸν ἠλίθιον ἀναφανήσεται ; Ἓν ἔτι μοι λῦσον τῶν αἰνιγμάτων· σεαυτῷ δὲ γεννωμένῳ παρῆς ; πάρει δὲ νῦν; ἢ οὐδέτερον ; Εἰ μὲν γὰρ καὶ παρῆς, καὶ πάρει, ὡς τίς, καὶ τίνι ; Καὶ πῶς ὁ εἷς ἄμφω γεγόνατε ; Εἰ δὲ μηδέτερον τῶν εἰρημένων, πῶς σεαυτοῦ χωρίζῃ ; Καὶ τίς ἡ αἰτία τῆς διαζεύξεως ; Ἀλλ’ ἀπαίδευτον τὸ περὶ ἑνός, εἰ ἑαυτῷ πάρεστιν, ἢ μή, πολυπραγμονεῖν. Ταῦτα γὰρ ἐπ’ ἄλλων, οὐχ ἑαυτοῦ λέγεται. |
Итак, Григорий рассмотрел два известных с «досократических» времен парадокса — сначала парадокс лжеца, который он трактует как случай, когда два противоположных утверждения являются истинными в одном и том же отношении, а потом парадокс становления (изменения во времени), который он трактует как случай, когда два противоположных утверждения оказываются ложными в одном и том же отношении. Последний парадокс формулируется в такой форме, в которой его парадоксальность — противоречие «здравому смыслу» — наиболее очевидно: предлагается обсудить идентичность самому себе не кого-то другого, а именно себя, хотя моя идентичность самому себе является для меня очевидной.
Из этого рассуждения видно, что Григорий отнюдь не призывает к тому, что с античных времен называется «разрешением» парадоксов: когда в их формулировках находят какие-нибудь ошибки или придумывают ухищрения, чтобы хоть как-то согласовать их с классической логикой. Он их просто принимает, как есть. Его подход к парадоксам — подход современных сторонников неконсистентных логик. Разумеется, такой подход не исключает существования, наряду с подлинными парадоксами, обыкновенных софизмов — которые все-таки подлежат «разрешению» в привычном смысле этого слова, то есть разоблачению.
Сторонникам неконсистентных логик возражают по поводу их отношения к парадоксам: мол, предлагаемые вами решения — подобны решению проблемы с лишним весом посредством того, чтобы научиться любить свое тело, как оно есть[122]. На это есть ответное возражение: принятие противоречий — это принятие реальности такой, как она есть, без иррациональной веры в ее непротиворечивость и особую приспособленность ко вкусам любителей классической логики; если воспользоваться выражением Витгенштейна — без «суеверного страха и преклонения перед противоречием»[123].
Григорий Богослов рассматривает два типа парадоксов — автореференции (парадокс лжеца) и нечеткости (идентичности во времени). Парадокс становления — это не что иное, как парадокс кучи, но применительно ко времени. В парадоксе кучи нечеткость возникает из-за невозможности определить точное число песчинок, которое позволит считать их собрание кучей. В парадоксе становления, аналогичным образом, нельзя определить точное количество и качество изменений, достаточных для утраты меняющимся объектом идентичности самому себе (то есть появлению вместо этого объекта чего-то другого). Говоря об идентичности во времени, Григорий особо выделяет случай самоидентификации.
Все эти вопросы — автореферентность, нечеткость (включая идентичность во времени) и самоидентификация — стали одними из наиболее обсуждаемых в философии приблизительно тогда, когда философия появилась, и остаются таковыми по сей день. Они обсуждались и в Византии. Постараемся сказать о каждой из этих проблем отдельно.
6.2. Кратчайший экскурс в три типа неконсистентных логик
Парадокс лжеца «я сейчас лгу» предполагает не просто тождество противоположного, в том или ином смысле, но самое резкое из возможных противоречий — контрадикторное, типа А = не-А. Такое противоречие подразумевает, что два более слабых противоречия имеют место одновременно: контрарное (А ≠ А) и субконтрарное (А = В, хотя одновременно А ≠ В). Чтобы получилось А = не-А, нужно соединить (в терминах логики, нужна конъюнкция) А ≠ А с А = В при А ≠ В.
Поясним эти различия типов противоречий еще так. Термины «контрарный», «субконтрарный» и «контрадикторный» относятся к структуре логического квадрата, которая описана уже Аристотелем (а нарисована в виде картинки, как говорят, впервые в VI веке Боэцием)[124]. Многие читатели ее помнят, поэтому я употребил эти привычные термины. Но можно объяснить и без логического квадрата, о какого рода различии между типами противоречий мы говорим. Только что я и попытался это сделать, но еще немного дополню.
Как известно, Аристотелев закон непротиворечия и его же закон идентичности эквиваленты, то есть они либо соблюдаются, либо нарушаются сразу оба. Поэтому мы можем говорить о видах противоречия на языке видов идентичности; это эквивалентные языки, между которыми существует взаимнооднозначное соответствие. Трем базовым видам нарушения закона непротиворечия будут соответствовать три вида нарушения закона идентичности.
Итак, закон идентичности требует, чтобы А было идентично самому себе: А = А. Как это можно нарушить?
Первый способ: А ≠ А: А не идентично само себе.
Это нечеткость, она подразумевает контрарное противоречие, допущение которого нарушит принцип запрещенного третьего (tertium non datur); допускающая такое противоречие логика называется паракомплектной. Язык такой логики оказывается удобным, например, для описания квантовой реальности[125]: кошка Шрёдингера, которая не жива и не мертва, а находится в каком-то третьем состоянии (квантовой суперпозиции), — хороший пример наличного «третьего», когда классическая логика допускает только или первое, или второе.
Можно привести пример паракомплектной логики в нашем повседневном мышлении: мы так думаем о «настоящем» — неуловимой границе между «прошлым» и «будущим». Как только мы начинаем думать о «настоящем» консистентно, оно обращается в «прошлое» (или «будущее»).
Тут, кстати, мы перешли и к геометрическому (топологическому) выражению наших типов противоречий[126]. Геометрия паракомплектной логики — это «не существующая» (не существующая в классическом смысле) граница между открытым множеством и его псевдо-комплементом[127], то есть тоже открытым множеством — как, например, граница между открытыми множествами «прошлое» и «будущее»; мы уже знаем, что такая граница — это «настоящее». «Прошлое» и «будущее» не имеют границ, они суть открытые множества, но они отграничены друг от друга такой вот «не существующей» границей.
Легко заметить, что именно такой границей между миром и ничто является «Я», метафизический субъект, по Витгенштейну. А вот представление о субъекте у Фихте и Краузе более сложное, и мы к нему еще вернемся.
У Макария Великого «лицо» или «глаз», которыми делаются ангелы и обоженные человеки, — это тоже такая граница. Эта поверхность, «лицо», не имеет двух сторон, в нем нет ничего заднего, а есть только сторона, обращенная вперед. Похоже на «настоящее», которое всегда обращено в «будущее», но, в данном случае, это граница между обоженным разумным творением (ангелом или человеком) и Богом. Однако Макарий пишет еще и о том, что обоженное создание само становится светом, то есть Богом. Это уже не паракомплектная логика, а параконсистентная, к которой мы сейчас и перейдем.
Второй способ: А = B при А ≠ B: А идентично В при А не идентично В.
Здесь не будет ни малейшей нечеткости, закон запрещенного третьего будет соблюдаться неукоснительно, но с классической логикой возникнут вполне очевидные проблемы. Логика, допускающая такое противоречие, называется параконсистентной, а само противоречие — субконтрарным[128].
В нашем повседневном мышлении мы используем параконсистентную логику, например, тогда, когда используем поэтические выражения — метафоры и другие. Метафора жива и интересна, пока мы непосредственно ощущаем тождество совершенно различного, не переставая ощущать различие. Как только мы объясним себе, на основании какой черты сходства была построена метафора, вся поэзия пропадет. Если стихотворение Пастернака Импровизация (1915)
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот…
пересказать «прозой» г-на Журдена (то есть языком, лишенным поэзии), то получим рассказ об игре на пианино, а вовсе не о тех состояниях, которые испытывал во время игры лирический герой[129].
В патристике и особенно в Каппадокийском кружке параконсистентная логика была использована для формулировки троичного догмата. Прямой ученик Григория Богослова, Евагрий Понтийский (345–399) писал, что божественная Троица отличается от троицы арифметической тем, что это такая троица, которой не предшествует двоица, и за которой не следует четверица, — то есть это такое «три», перед которым нет никакого «два», и после которого нет никакого «четыре». Через тысячу лет после него византийское богословие сохраняло и развивало применительно к Святой Троице такую «теорию чисел». По мнению автора этих строк, она была построена на параконсистентной логике[130].
Наконец, мы уже видели параконсистентную логику у Макария — когда он отождествлял ставшую оком душу и свет, то есть человека (или ангела) и Бога. При этом отождествлении полностью сохранялось их различие.
Подобное же мы видели и в «глазе», или субъекте-объекте Фихте и Краузе. Там тоже происходило такое отождествление. В обоих случаях — и у Макария, и у Фихте — это была параконсистентная логика. Однако, как мы помним, паракомплектная логика там была тоже: это око души оказывалось между творением и Богом (в случае Макария) или между Богом Фихте и человеком (который, в случае Фихте, не понимался как творение Бога)…
Таким образом, в последних наших примерах — из Макария и Фихте — параконсистентная логика сочетается с паракомплектной, а такое сочетание дает логику диалектическую — предполагающую контрарное противоречие и третий (и самый радикальный) способ нарушить закон идентичности.
Третий способ: А = не-А: А идентично своей противоположности
Тут А отождествляется не просто с каким-то В и не только растождествляется с самим собой, но отождествляется со своей противоположностью — не-А.
Тут всегда требуется внимательность, чтобы не перепутать неидентичность А самому себе с идентичностью А тому, что не-А. И в первом, и во втором случае будет иметь место нечеткость. Но во втором случае появляется тождество А со своим комплементом, то есть сразу со всем, что есть не-А (в пределах того универсума, в котором определено наше множество А).[131].
6.3. Парадокс лжеца: Михаил Пселл против Григория Богослова
В нашей цитате из Григория Богослова парадокс лжеца может показаться избыточным, особенно в его трактовке самим Григорием. Ведь он его толкует не как пример диалетизма — допустимости контрадикторного противоречия (конъюнкции контрарного и субконтрарного), — а как пример параконсистентности, то есть более узко и исключая из рассмотрения как раз, казалось бы, более нужную ему для полемики составляющую (он исключил контрарное противоречие и оставил субконтрарное). Для Григория это только пример того, как две взаимоисключающих пропозиции могут одновременно быть истинными. Но его техническая задача — показать, как две таких пропозиции могут быть одновременно ложными (и этому служит последующий парадокс идентичности). Однако, повторим, Григорий выходит за пределы узкой темы полемики, а делает заявление о логической природе реальности. Поэтому ему важно сказать не только о паракомплектной логике, но и о параконсистентной. Эти две логики образуют общую систему (которую легко показать на логическом квадрате), будучи, выражаясь современным языком, дуальными друг другу.
Для нас важно, что парадокс лжеца у Григория вовсе не подлежит «разрешению», а как раз поясняет допустимость использования такого рода парадоксов в рациональном дискурсе как таковом, а не только богословском. Специалисты по логике не только в античности (и в латинской схоластике)[132], но и в Византии[133] предпочитали считать иначе, так как все они верили в то, что правильная логика должна быть консистентной.
Вообще говоря, парадоксом лжеца богословы умели друг друга «троллить». В истории экзегезы Псалма 115:2 Аз же рех во изступлении моем: всяк человек лож (πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης «всякий человек лжец») имел место случай, когда некий оппонент (может быть, языческий оппонент христианства) усмотрел в этом стихе парадокс лжеца, поскольку и он произносится человеком, Давидом. Ориген, а за ним и Василий Великий усиленно возражали: по их мнению, Давид произносит эти слова «с точки зрения Бога», то есть не как человек, а как Бог по обожению[134]. Остальная византийская экзегеза не ставила перед собой вопроса о возможном здесь парадоксе лжеца, но она и не видела здесь вообще никакого парадокса, так как использовала тот подход, который в наше время называют контекстуализацией: всяк человек лож не во всех возможных смыслах этого выражения, и поэтому Давид, хоть он и человек, мог вложить некоторый непарадоксальный смысл в это свое высказывание. Контекстуализация, если она возможна, превращает парадокс в кажущееся, а не реальное противоречие.
Огромный авторитет в Византии Григория Богослова все же не позволял совсем легко отмахнуться от его заявления о возможности реальных противоречий. Логики могли себе позволить не обращать внимания на богословский текст (византийская наука была в очень значительной мере автономна от богословия), но в самом богословии случилось иначе.
К нашему отрывку из Григория Богослова обращается Михаил Пселл (1017/1018–ок. 1078). Сегодня мы знаем его как основателя византийской богословской школы XI–XII веков, продолженной, в частности, его прямым учеником Иоанном Италом и учеником Итала Евстратием Никейским (последний получил особую известность как в Византии, так и у латинских схоластов своими комментариями к Аристотелю). Эта школа находилась в сложных отношениях с византийской патристикой: осторожному Пселлу еще удалось избежать осуждения за ересь, а Италу и Евстратию уже нет. Пселл настаивал на консистентности логики даже и в богословии и не соглашался категорически с основными богословскими положениями Максима Исповедника[135]. Впервые после VI века — после Иоанна Филопона — в Византии возникла богословская оппозиция, всерьез применявшая к христианскому богословию положения языческой философии. В свое время влияние Иоанна Филопона оказалось огромным, хотя он был отделен от основного русла византийского богословия двумя барьерами (во-первых, как «монофизит», во-вторых, как сторонник крайне экзотического учения о Троице, прозванного «троебожием»). В XI–XII веках такого «санитарного барьера» не было (школа Михаила Пселла существовала строго в границах официальной византийской церкви, и даже ее осужденные представители — Иоанн Итал и Евстратий Никейский — с готовностью, пусть и лицемерной, каялись в своих заблуждениях), вместо гениального одиночки была целая созданная им школа — если и не таких гениальных, как Филопон, то чрезвычайно талантливых людей, — а потенциальные оппоненты, носители традиционного византийского богословия, были в Византии маргинализированы, среди них не было ни одной авторитетной для общества фигуры (по крайней мере, до 1110-х годов, когда ситуация переломилась, наконец, в их пользу), а сама языческая философия, по лекалам которой школа Пселла переписывала христианство, была более подходящей, нежели аристотелизм Филопона: учение неоплатоников и особенно Прокла (412–485)[136]. Имело место даже не просто появление новой богословской школы, а большое культурное явление, довольно точно названное «Прокловским ренессансом»[137].
Такая школа не могла не отреагировать на хрестоматийный текст Григория Богослова. На наше счастье, соответствующее рассуждение Михаила Пселла, обращенное к его ученикам, сохранилось в записанном виде, хотя до 1989 года оставалось неопубликованным и не было введено в научный оборот[138]. Как раз в итоге этого рассуждения Пселл не столько формулирует, сколько декларирует трактовку троичного догмата через учение Прокла и, шире, традицию неоплатоников[139], из чего далее будет развиваться триадология Иоанна Итала и особенно Евстратия Никейского.
Пселл перетолковывает Григория Богослова следующим образом. Если у Григория парадокс лжеца является примером одновременной истинности противоположных высказываний, то у Пселла он оказывается примером их одновременной ложности. Верно и то, и другое, поскольку парадокс лжеца диалетический, и базовое противоречие там контрадикторное, но Пселл выбирает другую составляющую, нежели Григорий. Это доставляет ему относительное удобство в том, что теперь оба парадокса Григория оказываются об одном и том же — о возможности двум противоположным высказываниям быть одновременно ложными, — и это как раз то, что нужно было противопоставить Евномию. Но уже на этом этапе теряется тот уровень обобщения, на котором говорил Григорий, так как у Григория речь шла о неконсистентности в целом. Но самый главный шаг Пселла совершается дальше. Тему реального противоречия он подменяет темой логики спора. Согласно Аристотелю, на которого он ссылается, утверждающий что-либо и опровергающий это находятся в неравном положении: утвердить что-либо — сложная процедура, тогда как для опровержения достаточно одного опровергающего примера. На этом основании Пселл истолковывает рассуждение Григория как речевую игру, в которой Евномианин утверждает, а Григорий опровергает. Если Евномианин будет утверждать, что лжец говорит истину, то Григорий докажет, что это ложно. Если Евномианин будет утверждать, что лжец говорит ложь, то Григорий докажет, что и это ложно. Отсюда вывод тот, что Евномианин вообще ничего не доказывает своими ссылками на логическую невозможность двум противоположным утверждениям быть ложными одновременно. Стаматиос Герогиоргакис, автор логического разбора аргументации Пселла, справедливо заключает, что Пселл переносит разговор в область речевых игр и техники спора, выводя из-под удара классическую логику с ее запретами противоречий. В последней Пселл нисколько не сомневается.
Вполне закономерно, что в богословская школа Пселла начинается с тотального переписывания всех логически неконсистентных учений византийского богословия. Но если по отношению к «Максиму философу» Пселл мог позволить себе прямую критику, то Григория Богослова была необходимо перетолковать. Максим в XI веке был великим богословским авторитетом только для полиэтничного палестинского монашества, но не для Константинополя. Его труды будут востребованы в Константинополе как раз в конце XI века для опровержения «школы Пселла», и только с тех пор его богословие как целое будет поставлено в один ряд с богословием Каппадокийцев. Выбрав Максима, а не Михаила Пселла, византийское богословие в очередной раз подтвердило свою несовместимость с зашпаклеванной и отполированной реальностью классической логики.
6.4. Григорий Богослов о парадоксе становления (идентичности во времени)
Парадокс становления, или идентичности во времени является, как мы уже упоминали, частным случаем парадокса кучи, то есть парадокса нечеткости. В истории логики и философии нечеткость получала различные трактовки — чаще всего, не связанные с неконсистентными логиками, а основанными на контекстуализации. Например, нечеткость значений слов естественного языка преодолевается в контексте их употребления. Но процедуру контекстуализации или другую логически консистентную процедуру устранения нечеткости можно предложить не всегда. В естественном языке семантическая нечеткость тоже неустранима, а контекстуализация способна лишь уменьшить ее масштаб. Принцип неопределенности Гейзенберга также указывает на один из случаев, когда нечеткость неустранима.
Григорий Богослов, очевидно, солидаризируется с теми современными философами и логиками, которые трактуют нечеткость посредством неконсистентных логик. Как и в случае парадоксов автореференции, при подходе к нечеткости может быть два неконсистентных пути: диалетизм (как и в случае парадоксов автореференции) или только одна его составляющая, паракомплектность. В любом случае, нечеткость трактуется как, в первую очередь, неидентичность самому себе, то есть паракомплектность, а потом уже речь может идти — или не идти — об идентичности чему-то другому (параконсистентности). Во многих случаях паракомплектная логика дает вполне удовлетворительную интерпретацию — как, например, в новых математических формализмах для квантовой механики, основанных на нечетких теориях множеств (теориях множеств, где элементы остаются счетными, но не идентичными самим себе; таковы свойства электронов и других микрочастиц, которые отличаются друг от друга, по сравнению Эрвина Шредингера, только как доллары на банковском счете).
Возможность рассматривать оба типа парадоксов — автореференции и нечеткости — в одинакового типа неконсистентной логике, диалетической, косвенно говорит о некоей общности структуры этих парадоксов, которую отмечали даже логики, отрицавшие допустимость неконсистентности (прежде всего, Дж. Рассел), и которые искали поэтому общих путей «разрешения» этих парадоксов, подразумевая под «разрешением» редукцию к консистентности[140].
Григорий Богослов рассматривает нечеткость только в пределах паракомплектности, что и не удивительно, коль скоро он постарался избежать диалетизма также и в парадоксе лжеца. В парадоксах лжеца и становления его интересует не столько их общность, сколько их различие. Общность важна только на самом общем уровне — неконсистентности как таковой, — а затем важным оказывается различие.
Мы уже говорили, что это различие состоит в двух базовых способах нарушения закона идентичности: либо через контрарное противоречие (парадокс нечеткости у Григория, А ≠ А), либо через субконтрарное противоречие (парадокс автореференции у Григория, А = В при А ≠ В), а совмещение обоих способов через контрадикторное противоречие (А = не-А) Григорий не рассматривает.
Интуитивно осознаваемую важность различия между двумя типами парадоксов один современный логик пояснил хорошей шуткой: рассказывали, что поэт и философ Филит из Коса (ок. 340–ок. 285 до Р.Х.) умер от бессонницы, пытаясь разрешить парадокс лжеца[141]. «Но насколько нам известно, никто еще не умер из-за парадокса кучи. Возможно, мы этим обязаны тому факту, что, поскольку не существует четкой границы между жизнью и смертью, ни одно живое существо не может умереть — разумеется, если только вообще могут существовать живые существа»[142].
Оба типа парадоксов ставят вопрос об идентичности, но по-разному: парадоксы нечеткости — об идентичности самому себе, а парадоксы автореференции — об идентичности другому.
6.5. Неконсистентная идентичность
Неконсистентный подход к понятию идентичности вообще и человеческой идентичности в частности совместим только с одним типом определения идентичности человека[143] — так называемым простым, или, иначе, антикритериализмом. Он состоит в том, что сама идентичность как явление имеет место, но никаких вообще критериев у нее нет. Она — нечто первичное и не определимая на основании чего-либо еще более первичного.
В наше время сторонников такого подхода очень мало, но они составляют хоть и несколько изолированную, но респектабельную группу. Пожалуй, самым выдающимся и самым авторитетным ее представителем был Джонатан Лау (Edward Jonathan Lowe, 1950–2014)[144], известный специалист по онтологии и реинтерпретатор метафизики Аристотеля в современном контексте. С одной стороны, важнейшим мотивом философии Лау была актуальность метафизики Аристотеля с ее требованием подходить к частному через общее. С другой стороны, Лау считал дескрипционизм Аристотеля не достигающим цели: индивидуальный объект никогда не будет вполне описуемым через перечисление его свойств; это соображение привело Лау к радикальному выводу о невозможности существования критериев идентичности. При этом ни Лау, ни другие современные антикритериалисты не испытывали симпатий или хотя бы интереса к неконсистентным логикам. Им не нужно было тяготиться консистентностью, так как они не вступали с ней в прямой конфликт. Зато обратное неверно: неконсистентные представления об идентичности повлекут за собой антикритериализм (или, во всяком случае, какой-то новый и неконсистентный критериализм).
Византийская патристика тоже, как мы помним, столкнулась с недостаточностью дескрипционизма в духе Аристотеля. Это проявилось уже в спорах с Аполлинарием в IV веке, но достигло кульминации, пожалуй, в христологической дискуссии начала IX века между Феодором Студитом и иконоборцами (о которой мы упоминали выше, раздел 1.5). В итоге этой дискуссии Феодору пришлось заявить антикритериалистскую позицию: Иисус является Логосом, а не человеческим индивидуумом, так как от человеческого индивидуума он получил только свойства — пусть это даже исчерпывающий набор свойств, — но не саму индивидуальность, которая к свойствам не редуцируется и свойствами не определяется.
Чтобы не возникало впечатление, будто в данном случае у Феодора Студита мы имеем дело с каким-то остроумным, но нетрадиционным завихрением мысли, поясним кратко его утверждение в более широком контексте догматики. В этом более широком византийском контексте христология должна была быть симметрично связана с учением о спасении, то есть обожении человека (согласно принципу tantum—quantum, «насколько—настолько»; см. выше, раздел 1.3 и прим. 5). В вочеловечении Бог приобретает все свойства человека, но не становится отдельным человеком, то есть человеческой ипостасью — так как и в обожении человек приобретает все свойства Бога, но не становится еще одной ипостасью божества, дополняющей Святую Троицу и до четверицы и далее. В случае человека работает то же самое представление об идентичности, которая не определяется тождеством свойств. У обоженного человека есть все свойства божественной ипостаси, но он все равно не божественная ипостась. И точно так же у вочеловечившегося Бога есть все свойства отдельного человека, Иисуса, но он при этом все равно не человеческая ипостась, а только лишь ипостась Логоса, единого из Святой Троицы.
6.6. Противоречивость «присутствия при самом себе»
Осталось разобрать теперь формально, почему Григорий так выделил случай собственной идентичности: в чем он представляет особую сложность по сравнению с проблемой идентичности как таковой.
Понятие «Я» неизбежно рушит обычный для классической логики порядок умозаключений, который предполагает движение от общего к частному или хотя бы от частного к общему (кто может, тот может вспомнить логический квадрат и принципы силлогистики и индуктивной логики). «Я» не является членом какого-либо класса, в котором есть другие «Я». Такой класс могли бы составить только «они» — те «Я», которые оторваны от своих владельцев посредством объективации. Это уже не живые «Я», а их мумии. А настоящее «Я» уникально. Это — сейчас самое время вспомнить такое понятие — синглетон: множество, содержащее только один элемент.
Синглетон является своим собственным частным и своим собственным общим. Отношение субалтерности (частного к общему) становится коммутативным: от перемены мест частного и общего ничего не меняется. Логический квадрат в таком случае «схлопывается» до «логического отрезка». В таком отрезке совпадают контрарное и субконтрарное противоречия, и поэтому «Я» отделено от «не-Я» противоречием контрадикторным[145].
Диалетическим устройством «Я» объясняются его главные свойства: способность исчезать от объективирующего наблюдателя (это паракомплектность) и способность к отождествлению с «не-Я» без отождествления (это параконсистентность).
Оба свойства являются свойствами логической структуры, а не онтологии. Вполне естественно, что для сторонившихся богословия Витгенштейна и Нильса Бора второе свойство — параконсистентность — не было актуально и не было замечено. Зато оно оказалось актуально для христианского богословия и для Фихте, хотя для христианского богословия в качестве «не-Я» выступают альтернативно христианский Бог или ничто, а для Фихте — безальтернативно его собственное («панэнтеистическое», в терминологии Краузе) божество. Это большое различие в богословии и в онтологии, но не в логической структуре.
7. Тектонические слои глубинного «Я»
«Я» превратилось для христианства в особую проблему в связи с христологией. Нельзя признать воплощение Бога полноценным, если он в своем воплощении не будет обладать человеческой субъектностью и свободой. Если бы было так, то это бы означало, что Бог воплотился не в настоящего человека, а в какое-то человеческое животное. Но если Бог будет обладать человеческой свободой, не идентичной божественной, то будет не воплощение Бога-Слова во единого Богочеловека, а какое-то слипание Бога и отдельного человека. Эта проблема не имела консистентного, то есть свободного от противоречий, решения. Но зато она имела неконсистентное решение.
Для ее решения пришлось разобрать устройство самого человека. Помимо телесного и психического устройства, в человеке есть нечто главное — так называемый ум, νοῦς. Но понятие ума определяется в патристике противоречиво: то это носитель образа Божия и самого божества (в том смысле, в каком Бог непосредственно присутствует в человеке), то это глубинный и главный центр личности, принимающий собственные решения, которые могут также и отдалять от Бога. В обожении ум, как и весь человек, не исчезает, но уже полностью и необратимо идентифицируется с Богом, оставаясь неидентичным Богу. Прежде обожения такая неидентичная идентификация тоже имеет место, но она еще не имеет полноты и необратимости. Отсюда противоречивость в патристических определениях ума: то это нечто вполне человеческое, то — не вполне. В вечной погибели с умом и человеком как целым происходит логически то же самое, что в обожении, но человек так же становится идентичен, не становясь идентичным, не с Богом, а с ничто.
В возможности параконсистентной идентификации при сохранении неидентичности состоит логическое содержание и воплощения Бога, и обожения человека. Но состоит только наполовину. Параконсистентная идентификация еще не объяснит нам сохраняющегося различия: почему все-таки Иисус остается Логосом, одним из трех лиц Святой Троицы, а обоженный человек остается одним из людей, а не четвертым (пятым, шестым и так далее) в Святой Троице. Это вопрос об идентичности: почему Логос, даже став Иисусом, идентичен только Логосу, а Петя или Маша, даже став Богом по обожению, идентичны только Пете или Маше? Каковы критерии их идентичности самим себе — особенно на фоне того, что они уже параконсистентно идентичны «не-себе»?
Ответ прост в смысле своей предельной логической простоты: они идентичны «просто» — просто потому, что идентичны, а никаких критериев идентичности не бывает. Да, Иисус абсолютно по всем своим свойствам был идентичен отдельному человеку, но это его свойства были идентичны, а сам он идентичен не был. Да, Петя и Маша, достигнув обожения и богосыновства, по всем свойствам идентичны Богу, но они не становятся новыми ипостасями Святой Троицы. В том и другом случае — воплощения Бога и обожения человека — тождество свойств означает реальность соединения двух природ, божественной и человеческой. Но оно никогда не означает отмены индивидуальной идентичности — Логоса Логосу, Пети Пете и Маши Маше.
Идентичность индивидуумов оказывается независимой от свойств. А сохранение идентичности нарушает симметрию (коммутативность) параконсистентной идентификации. Поэтому Иисус — это все-таки божественный Логос как один из людей, а не просто один из людей, а обоженные Петя и Маша — это все-таки Петя и Маша как сыны (и дщери) Божии, а не просто Сын Божий и один из Святой Троицы.
Эта не имеющая критериев идентичность самим себе свойственна всем людям и вне обожения, хотя бы в силу того, что некоторый начальный уровень обожения есть у всех людей от рождения, — ведь они все «части Бога» в смысле памятного нам выражения Григория Богослова. Субъектность, или «Я» каждого человека описывается двояко: и как нечто автономное, и как присущая именно этому человеку «часть» Бога. Человеческое «Я» (тут это понятие эквивалентно «уму» в смысле патристики) оказывается границей между «человеческим животным» и Богом (или не Богом, а ничто — если таков окажется выбор самого этого «Я»). Если бы устройство человека следовало непротиворечивой логике, то между ними не должно было бы быть ничего третьего. Но то самое третье, которое не дано классической логике, появляется между Богом и «человеческим животным» в качестве человеческой субъектности, «Я», или ума (в патристическом смысле этого слова).
Это свойство паракомплектности. Мы думаем паракомплектно, когда думаем о «настоящем», пока оно не успевает в наших мыслях отвердеть в «прошлое» или «будущее». Так же паракомплектно устроено наше «Я», которое отличается сразу и от «человеческого животного», и от Бога и столь же неуловимо для нашей объективирующей мысли, сколь и настоящее. Тут неуловимость — это паракомплектное свойство неидентичности самому себе, А ≠ A. Но эта формула неидентичности как раз гарантирует идентичность, так как мы понимаем, что А в обеих ее частях — одно и то же.
Итак, «Я» сразу и паракомплектно, и параконсистентно: первое свойство создает ему неуничтожимую, хотя и неуловимую идентичность, а второе свойство — возможность идентифицироваться с Богом или ничто, сохраняя при этом свою индивидуальность. Сочетание паракомплектности и параконсистентности дает диалетизм, которым и характеризуется наше «Я», — сразу не идентичное и идентичное самому себе и стремящееся к полноте неидентичной идентификации с Богом или ничто.
Поэтому ум имеет параконсистентную геометрию, которую описывает Макарий Великий, используя образы из видения Иезекииля. Если человек обращается к божественному свету, то он — весь целиком глаз или лицо, у него нет задней стороны, а только передняя. Но при этом он не «заполняется» светом, а сам становится светом.
До сих пор мы обсуждали глубинное устройство человека. Поэтому мы не касались психологии. Это устройство, как сказал бы Витгенштейн, «метафизического Я», а не «Я» психологического. Это тектонические слои, поверх которых тонким слоем почвы легла психология. Наблюдательный пункт безымянного подвижника, с которого мы начали эту главу, — откуда он наблюдает за своими как телом, так и душой, — покоится на сваях, вбитых сквозь почву психологии в эту глубинную твердую породу.
В обыденной жизни о существовании подобных слоев люди предпочитают не думать. Христианская аскетика, напротив, предлагает думать именно о них, но дозированно и по правилам. Также можно начать думать не дозированно и без правил — но тогда и не без последствий… Человек любознательный, но осторожный и не имеющий специальных христианских целей, может сделать так, как сказал поэт[146]:
На цыпочках подкравшись к себе
Я позвонил и убежал.
Христианская аскетика предлагает дождаться, пока на звонок откроют.
[1] Критич. изд.: Jean-Claude Guy, La Collation des douze anachorètes, Analecta Bollandiana 76 (1958) 419–427, цит. p. 423. Рассказ датируется по датировке латинского перевода, выполненного где-то в середине VI века.
[2] См. библиографию в гл. 1, прим. 3.
[3] См. обзор их соответствующих полемических высказываний: Г. И. Беневич, Полемика с аполлинарианами Каппадокийских отцов и св. Епифания Кипрского: христологический и антропологический аспекты, в: Антология восточно-христианской богословской мысли. Ортодоксия и гетеродоксия. Под ред. Г. И. Беневича и Д. С. Бирюкова. 2 тт. (Σμάραγδος φιλοκαλίας; Византийская философия, 4-5). Москва—С.-Петербург: «Никея»—РХГА, 2009, т. I, сс. 369–378.
[4] Григорий Богослов, Послание 101, к Клидонию пресвитеру первое (лето 382), 32; Paul Gallay, Grégoire de Nazianze, Lettres théologiques. Introduction, texte critique, traduction et notes (Sources chrétiennes, 208), Paris: Cerf, 1974, p. 50.
[5] О принципе обожения «насколько—настолько», по-латыни tantum—quantum, по-гречески (опять из формулировки Григория Богослова) τοσούτον--ὅσον, существует такая обширная литература, что тут будет излишне о нем особо распространяться. О его фундаментальной роли для всей византийской догматики мне приходилось писать на довольно широком материале в: В. М. Лурье, История византийской философии. Формативный период, Санкт-Петербург: Axiōma, 2006. Лучшим монографическим исследованием темы остается, на мой взгляд, Jean-Claude Larchet, La divinisation de l’homme selon saint Maxime le Confesseur (Cogitatio fidei, 194), Paris, 1996.
[6] Богородичная стихира, так называемый догматик, 7-го гласа; авторство традиционно (и вполне возможно, что достоверно) приписывается Иоанну Дамаскину (вторая половина VII в.—середина VIII в.). В богослужении по византийскому обряду это песнопение поется торжественно на субботней вечерне один раз в восемь недель.
[7] Дионисий Ареопагит, О божественных именах 1:1 и 1:5; Beata Regina Suchla, Corpus Dionysiacum. I. Pseudo-Dionysius Areopagita, De divinis nominibus (Patristische Texte und Studien, 33), Berlin—New York, 1990, p. 109.16 = PG 3, 588 B и p. 117.4 = PG 3, 593 C.
[8] Как пишет авторитетнейший среди них Петер ван Инваген, “…nothing that is true can be internally inconsistent”; “I have said that I could find no theologian who was actually said that inconsistencies were to be believed”; Peter van Inwagen, Three Persons in One Being: On Attempts to Show that the Doctrine of the Trinity is Self-Contradictory, in: The Trinity. East/West Dialogue (Studies in Philosophy and Religion), ed. by Melville Y. Stewart, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 83–97, at pp. 86, 87.
[9] Об отношении Мейстера Экхарта к византийской традиции см. все еще основополагающий, хотя и отчасти устаревший труд Vladimir Lossky, Théologie negative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart (Études de philosophie médiévale, 48), Paris: J. Vrin, 1960.
[10] Об непонимании и перетолковывании идей Ареопагита, связанных с противоречиями, в образцовом схоластическом комментарии к Корпусу, написанном Альбертом Великим (1200–1280), а также о, напротив, адекватном понимании у Николая Кузанского, см.: Carlos Steel, Beyond the Principle of Contradiction? Proclus’ “Parmenides” and the Origin of Negative Theology, in: Die Logik des Transzendentalen. Festschrift für Jan A. Aertsen zum 65. Geburtstag, hrsg. von Martin Pickavé (Miscellanea Mediaevalia, 30) Berlin—New York: W. de Gruyter, 2003, pp. 581–599.
[11] А также и с композицией Корпуса: четыре длинных послания и десять коротких — точно как в атрибутируемых Павлу посланиях, входящих в Новый Завет.
[12] В современной науке обострилась начавшаяся еще в середине ХХ века дискуссия о том, существовала ли специфическая для Византии — то есть не просто механически унаследованная от античности — философская традиция и, в частности, логика. Автор этих строк, разумеется, солидаризируется с теми, кто отвечает на этот вопрос положительно. Противоположная точка зрения недавно выражена в ряде глав The Cambridge Intellectual History of Byzantium, ed. by Anthony Kaldellis and Niketas Sinissoglou, Cambridge: Cambridge UP, 2017; см. пространную критическую рецензию коллектива авторов: Dmitry Chernoglazov, Grigory Benevich, Arkadi Choufrine, Oksana Goncharko, Timur Schukin, Scrinium 14 (2018) 475–507, в частности, о логике см. pp. 503–505 (Oksana Goncharko), а также подробную статью, входящую в технические детали соответствующих логик: Oksana Yu. Goncharko, Yuriy M. Romanenko, A Brief History of Self-Reference Notion Implementation in Byzantium: Did the Byzantine Theologians and Scholars Formulate Russell’s Paradox?, Scrinium 12 (2016) 244–266.
[13] Современные философы спорят о статусе — абсолютном или контингентном — законов логики и законов физики и прочих естественных наук. Распространены сомнения в метафизической необходимости законов природы, за которыми признается, в таком случае, лишь контингентная необходимость. См., в частности, анализ разных подходов у Kit Fine, The Varieties of Necessity [2002], reprint in: idem, Modality and Tense: Philosophical Papers, Oxford: Clarendon Press, 2005, pp. 235–260. Внутри современной логики идет дискуссия о границах логического плюрализма, то есть о том, насколько произвольны сами законы логики: см. одну из крайних позиций у J.C. Beall, Greg Restall, Logical Pluralism, Oxford: Clarendon Press, 2006; современное состояние дискуссии отчасти видно по материалам сборника: Pluralisms in Truth and Logic, ed. by Jeremy Wyatt, Nikolaj J. L. L. Pedersen, Nathan Kellen (Palgrave Innovations in Philosophy), Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
[14] См. краткий очерк этих противоречий с IV по XII века в Византии в: Лурье, История византийской философии.
[15] В тех сообществах, где возобладала какая-либо из слишком односторонних, по византийским понятиям, точек зрения, продолжались аналогичные дискуссии, иногда с воспроизведением византийского подхода, но в иной системе понятий. Например, такое имело место в «несторианской» церкви на территории Ирана в VII–VIII веках и в «монофизитской» Эфиопской церкви на протяжении всей ее истории (но хорошо задокументировано только с XVII по ХХ века).
[16] Это стихотворение обрело необычайную популярность в советской детской культуре и приписывалось разным авторам, а также слегка дополнялось. Приведу канонический текст по editio princeps, журналу Ёж (1928), № 11, с. 9, где этот текст, озаглавленный «Неопытный столяр», опубликован анонимно в виде подписей к комиксу художника Бориса Антоновского из шести картинок (по строке на картинку: мальчик постепенно отпиливает до конца ножки венского стула):
Велика у стула ножка!
Подпилю её немножко!
А теперь вот эта ножка!
Подпилю её немножко!
А теперь вот эта ножка!
Эх ошибся я немножко!
[17] Basil Lourié, Theodore the Studite’s Christology against Its Logical Background, Studia Humana 8 (2019) 99–113, с указанной там библиографией. Ср. также idem, The Philosophy of Dionysius the Areopagite: An Approach to Intensional Semantics, in: Georgian Christian Thought and Its Cultural Context. Memorial Volume for the 125th Anniversary of Shalva Nutsubidze (1888–1969), ed. by T. Nutsubidze, C. B. Horn, B. Lourié, with the Collaboration of A. Ostrovsky (Texts and Studies in Eastern Christianity, 2); Leiden—Boston: Brill, 2014, pp. 81–127; рус. пер.: В. М. Лурье, Философия Дионисия Ареопагита: теория значения, Εἶναι. Проблемы Философии и Теологии 3 (1/2) (2014) 377–428.
[18] Еще более резко — и именно по этой причине — она отвергается большинством современных философов, даже таких, которые сами всю жизнь шли против философского «мейнстрима», как, например, Хилари Патнем (1926–2016), который осудил все варианты неконсистентных квантовых логик и с начала 1960-х годов до конца жизни оставался непреклонным в своем неприятии «Bohr’s rejection of scientific realism» («боровского отказа от научного реализма»): Hilary Putnam, A Philosopher Looks at Quantum Mechanics (Again), The British Journal for the Philosophy of Science 56 (2005) 615–634, особ. p. 625, fn. 13. Относительно Боровского «анти-реализма» см.: Jan Faye, Niels Bohr: His Heritage and Legacy: An Anti-Realist View on Quantum Mechanics (Science and Philosophy, 6), Dordrecht: Springer Science+Business Media, 1991, p. 233: “Bohr was an objective anti-realist, in contradistinction to other contemporary anti-realists”; автор имеет в виду, что Бор признавал реальное и независимое от наблюдателя существование квантовых объектов, но считал их свойства зависящими от процедуры наблюдения.
[19] Относительно учения о Троице (с дальнейшей библиографией): Basil Lourié, What Means “Tri-” in “Trinity”? An Eastern Patristic Approach to the “Quasi-Ordinals”, Journal of Applied Logics (в печати); относительно христологии: Lourié, Theodore the Studite’s Christology.
[20] В качестве подведения итогов такого развития за первые десятилетия см.: G. Cattaneo, M. L. Dalla Chiara, R. Giuntini, F. Paoli, Quantum Logic and Nonclassical Logics, in: Handbook of Quantum Logic and Quantum Structures: Quantum Logic, ed. by K. Engesser, D. M. Gabbay, D. Lehmann, Amsterdam: Elsevier, 2009, pp. 127–226; развитие, однако, настолько бурное, что любые обзоры современного состояния науки в этой области быстро устаревают.
[21] Аполлинарий Лаодикийский, фрагмент 22; Hans Lietzmann, Apollinaris von Laodicea und seine Schule. Texte und Untersuchungen. I. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904, S. 209.
[22] Ср. трактовку авторитетного греческого историка богословия Иоанна Романидиса (1927–2001): “Apollinaris is known to have denied to Christ not the human rational faculty but the human nous. He said that Christ took rational soul, but the Word (Logos) took the place of the nous” ([Hierotheos <Vlachos>], Empirical Dogmatics of the Orthodox Catholic Church according to the Spoken Teaching of Father John Romanides, tr. by Sr. Pelagia Seife, 2 vols., Levadia: Birth of Theotokos Monastery, 2012–2013, vol. 2, pp. 148–149). Благодарю Г. И. Беневича, обратившего мое внимание на эти мысли И. Романидиса.
[23] Аполлинарий Лаодикийский (или его ученики), Краткое изложение (Ἀνακεφαλαίωσις), 29; текст сохранился в составе так называемого V Диалога о Св. Троице Псевдо-Афанасия (антиохийская богословская школа, V в.), где это произведение цитируется и опровергается поглавно: Alessandro Capone, Pseudo-Atanasio, Dialoghi IV e V sulla santa Trinità (testo greco con traduzione italiana, versione latina e armena) (Corpus scriptorum christianorum orientalium, vol. 634; Subsidia, t. 125) Lovanii: Peeters, 2011, p. 168 (атрибуция и датировка: ibid., pp. 10-13); ср.: Lietzmann, Apollinaris von Laodicea, S. 246.
[24] «Не хочешь ли ты уже и отделить Логоса от жизненных, мыслительных и страстных движений человечества?» (Πῶς δὲ οὐ θέλεις ταῖς ζωτικαῖς καὶ λογιστικαῖς καὶ παθητικαῖς κινήσεσι χωρίζεται τὸν Λόγον τῆς ἀνθρωπότητος ; ) и т.д.: Capone, Pseudo-Atanasio, p. 170 (cp. pp. 170, 172).
[25] См. Лурье, История византийской философии.
[26] Brian E. Daley, “Heavenly Man” and “Eternal Christ”: Apollinarius and Gregory of Nyssa on the Personal Identity of the Savior, Journal of Early Christian Studies 10 (2002) 469–488, особ. 477–479; ср.: “For Apollinarius, Christ’s role as savior rests primarily on the fact that he is unlike us” (p. 478).
[27] Daley, “Heavenly Man”; см. также Brian E. Daley, Divine Transcendence and Human Transformation: Gregory of Nyssa’s Anti-Apollinarian Christology, Studia Patristica 32 (1997) 87–95 [репринт: Modern Theology 18 (2002) 497–506]; Larchet, La divinisation; Лурье, История византийской философии. См. также Brian E. Daley, God Visible: Patristic Christology Reconsidered, Oxford: Oxford University Press, 2018.
[28] Carl Laga, Carlos Steel, Maximi Confessoris Quaestiones ad Thalassium. I. Quaestiones I-LV una cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae iuxta posita (Corpus Christianorum. Series graeca, 7; Maximi Confessoris Opera) Turnhout: Brepols, 1980, pp. 285, 287. Рус. пер. А. И. Сидорова (с исправлениями) по: Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. II. Вопросоответы к Фалассию. Часть 1: Вопросы I-LV. Пер. и комментарии С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова. (Святоотеческое наследие), Москва: Мартис, 1994, с. 129.
[29] Под произоволением (προαίρεσις) традиционно подразумевали ту способность, которая осуществляет возможность выбора. Для понятия выбора Максим использует термин γνώμη — близко к латинскому термину liberum arbitrium («свободный выбор» в значении «свобода воли»); в частности, в этом отрывке он использует этот термин, чтобы объяснить, что Христос не совершал никакого греха по собственному выбору. Однако, Бог вообще не совершает выбор, а просто исполняет свою волю, а поэтому, как будет замечать Максим в своих более поздних произведениях, написанных уже в разгар полемики о божественной и человеческой волях во Христе, — применительно к Логосу, даже и воплощенному, вообще нельзя говорить о «произволении» в смысле προαίρεσις, то есть связанного с актом выбирания. В Вопросоответах к Фалассию терминология Максима еще не такая строгая, а обычная как для его эпохи, так и для IV века, когда «произволением» называли просто действие воли Божией, не обращая внимания на коннотации, связанные с выбиранием. Наиболее детальным исследованием «психологического» понятийного аппарата, использовавшегося Максимом Исповедником, сегодня является: Г. И. Беневич, Богословско-полемические сочинения прп. Максима Исповедника и его полемика против моноэнергизма и монофелитства, в: Прп. Максим Исповедник, Богословско-полемические сочинения (Opuscula Theologica et Polemica). Пер. с древнегреч. Д. А. Черноглазова и А. М. Шуфрина (Византийская философия, 15; Σμάραγδος φιλοκαλίας) Святая гора Афон—Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2014, сс. 11–298, особ. 123–142; ср. мою рец.: В. Лурье, Максим Исповедник и его китайская логика. Мысли по поводу новых публикаций Г. И. Беневича и соавторов, Волшебная Гора 17 (2016) 468–478.
[30] Григорий Нисский, Антирритик против Аполлинария; Fridericus Mueller, Gregorii Nysseni Opera dogmatica minora, pars I (Gregorii Nysseni Opera, III, 1) Leiden: Brill, 1958, p. 198.
[31] Григорий Нисский, Антирритик против Аполлинария; Fridericus Mueller, Gregorii Nysseni Opera dogmatica minora, pars I, p. 208.
[32] Brad Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, Oxford: Clarendon Press, Oxford UP, 1985; Julia Annas, Hellenistic Philosophy of Mind, Berkeley: University of California Press, 1991; Jean Bouffartigue, La structure de l’âme chez Philon: terminologie scolastique et métaphores, in: Philon d’Alexandrie et le langage de la philosophie. Actes du colloque international organisé par le Centre d’études sur la philosophie hellénistique et romaine de l’Université de Paris XII-Val de Marne (Créteil, Fontenay, Paris, 26-28 octobre 1995), éd. par Carlos Lévy, avec la collaboration de Bernard Besnier (Monothéismes et philosophie) Turnhout: Brepols, 1998, pp. 59–76; Gretchen Reydams-Schils, Philo of Alexandria on Stoic and Platonist Psycho-Physiology: The Socratic Higher Ground, Ancient Philosophy 22 (2002) 129–148.
[33] Григорий Нисский, Антирритик против Аполлинария; Fridericus Mueller, Gregorii Nysseni Opera dogmatica minora, pars I, p. 165 (цитирую лишь небольшой фрагмент подробного рассуждения).
[34] Похвалы могут заслуживать только добровольные, а не вынужденные поступки: Аристотель, Никомахова этика, III, 1; 1110 a.
[35] Григорий Нисский, Антирритик против Аполлинария; Fridericus Mueller, Gregorii Nysseni Opera dogmatica minora, pars I (Gregorii Nysseni Opera, III, 1) Leiden: Brill, 1958, p. 198.
[36] Григорий Нисский, Против Аполлинария, к Феофилу, епископу Александрийскому; Fridericus Mueller, Gregorii Nysseni Opera dogmatica minora, pars I (Gregorii Nysseni Opera, III, 1) Leiden: Brill, 1958, pp. 126–127, цит. р. 127.
[37] Григорий Нисский, Антирритик против Аполлинария; Fridericus Mueller, Gregorii Nysseni Opera dogmatica minora, pars I (Gregorii Nysseni Opera, III, 1) Leiden: Brill, 1958, p. 201.
[38] Диалог IV, гл. 5; Capone, Pseudo-Atanasio, p. 78.
[39] Johannes Zachhuber, Human Nature in Gregory of Nyssa: Philosophical Background and Theological Significance (Vigiliae Christianae, Supplements, 46) Leiden: Brill, 2014: “…Gregory… was far from a consistent christology…”; в некоторых его текстах бросается в глаза “...the lack in his thought of a christological concept capable of maintaining the personal unity and identity of the saviour…” (p. 216); несмотря на использование «монофизитского» языка Иринея Лионского и Афанасия Александрийского, у Григория “…apparently remain two subjects” и, следовательно, “…a real Incarnation is not achieved” (p. 217).
[40] См. особ.: John F. Horty, Agency and Deontic Logic, Oxford: Oxfrod UP, 2001, p. 16.
[41] Пер. Н. В. Брагинской (1997).
[42] Thesaurus Linguae Graecae знает ранние нехристианские примеры только у авторов II века Максима Софиста и астролога Веттия Валента; к тому же веку относится первое христианское употребление — у Юстина Философа. Разумеется, слово ἐξουσία в значении «власть» употребляется во все века очень часто, но оно обычно не имеет специальной связи с понятием свободы.
[43] Это испанская иезуитская школа последователей Луиса де Молины (1536–1600), так называемые молинисты, особенно в трудах ее представителей первой трети XVII века, а позже и независимо от них, хотя впоследствии и узнав об их трудах, — Лейбниц. Ср.: B. Lourié, Philosophy of Dionysius the Areopagite: Modal Ontology, in: Logic in Orthodox-Christian Thought, ed. Andrew Schumann, Heusenstamm bei Frankfurt: Ontos-Verlag, 2013, pp. 230-257; рус. пер.: В. М. Лурье, Модальная онтология Дионисия Ареопагита, Εἶναι. Проблемы Философии и Теологии 4(1/2) (2015) 490–511. В современной философии молинизм обрел второе дыхание, хотя и не перестает быть маргинальным течением; ср.: Molinism: The Contemporary Debate, ed. by Ken Perszyk, Oxford: Oxford UP, 2011. Мы не будем останавливаться на молинизме, хотя, на мой взгляд, это еще одно неконсистентное решение для проблемы согласования воли Божией со свободой воли человеческой, использующее неконсистентную концепцию человеческой индивидуальности. Главным богословским отличием представленного у нас «византийского» подхода от молинизма является представление о непосредственном присутствии Бога в душе и учение о обожении (чего у западных богословов и философов не было). На уровне неконсистентной логики отличие в том, что неконсистентность человеческого индивидуума в патристике описывается в диалетической логике (и через парадоксы как автореференции, так и нечеткости), тогда как у западных мыслителей — в логике паракомплектной (и только через парадоксы нечеткости); см. об этих логических понятиях ниже. Об имплицитной неконсистентности деонтической логики Лейбница см. особ.: Lorenzo Peña, Le choix de Dieu et le principe du meilleur, Dialectica 47 (1993) 217–254.
[44] Максим Исповедник, Opuscula theologica et polemica, 1; PG 91, 9 Α–37 D; комментированный рус. пер.: Максим Исповедник, Богословско-полемические сочинения, сс. 13–16, 185–186.
[45] PG 91, 17 C-19 A. Рус. пер. основан на переводе Д. А. Черноглазова и А. М. Шуфрина, но для всех терминов даются те русские соответствия, которыми я пользуюсь на протяжении этой работы.
[46] I. Berlin, Two Concepts of Liberty [1958], in: idem, Liberty. Incorporating “Four Essays on Liberty”, ed. H. Hardy. Oxford: Oxford UP, 2002, pp. 166-217.
[47] Н. Бердяев, Философия свободы, Москва: Путь, 1911, часть II, гл. 5
[48] Здесь и ниже мы пересказываем и цитируем Opuscula theologica et polemica, 1; PG 91, 29 C–32 A; рус. пер. (цитирую с изменениями): Максим Исповедник, Богословско-полемические сочинения, сс. 313–314; ср. примечания, сс. 515–517.
[49] Диалог с Пирром: καθ’ ἣν φιλικῶς τὰ ἀλλήλων οἰκειούμεθα καὶ στέργομεν, μηδὲν τούτων αὐτοὶ ἢ πάσχοντες, ἢ ἐνεργοῦντες [Диспут с Пирром. Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия, отв. ред. Д. А. Поспелов (Σμάραγδος φιλοκαλίας), Москва: Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках,, 2004, с. 168.26-31 = PG 91, 304 AB]. Подробный анализ понятия «усвоения» у Максима см.: Беневич, Богословско-полемические сочинения, сс. 98–114.
[50] Григорий Богослов, Слово 30 (Богословское 4, О Сыне 2), 5; Paul Gallay, Grégoire de Nazianze, Discours 27–31 (Sources chrétiennes, 250), Paris: Cerf, 1978, p. 234. Ср.: Беневич, Богословско-полемические сочинение, с. 97, и прим. 431 (с. 249) к переводу.
[51] Помимо уже цитированной работы Г. И. Беневича (Богословско-полемические сочинения), см. также хорошее введение в эту проблематику у Ian A. McFarland, “‘Willing Is Not Choosing’: Some Anthropological Implications of Dyothelite Christology,” International Journal of Systematic Theology 9 (2007) 3–23, перепечатано как ch. 4 in: idem, In Adam’s Fall: A Meditation on the Christian Doctrine of Original Sin (Challenges in Contemporary Theology), Chichester, 2010, pp. 88–116. Автор не углубляется в логические подробности, но акцентирует внимание на главных идеях богословской антропологии; ср.: “…because what God first makes and then deifies are human beings – rational, responsible, self-conscious agents – the saint’s relationship with God is a manifestation of her freedom as one who, by grace, not only knows and loves God, but does so willingly” (p. 104).
[52] Максим Исповедник, Ambigua, 7; PG 91, 1076 B = Maximos the Confessor, On Difficulties in the Church Fathers: The Ambigua. Ed. and transl. by Nicholas Constas (Dumbarton Oaks Medieval Library), vol. 1. Cambridge, MA—London: Dumbarton Oaks, 2014, pp. 88, 91.
[53] PG 91, 33 D–36 A; рус. пер. (с изменениями) по: Максим Исповедник, Богословско-полемические сочинения, с. 316.
[54] Приводит Беневич, Богословско-полемические сочинение, с. 128.
[55] Здесь я перефразирую некоторые выражения Витгенштейна, к которым нам еще предстоит вернуться (раздел 5.5).
[56] Ср.: Lourié, Philosophy of Dionysius the Areopagite: Modal Ontology; Лурье, Модальная онтология Дионисия Ареопагита.
[57] Максим Исповедник, Quaestiones et dubia, 173; José H. Declerck, Maximi Confessoris Quaestiones et Dubia (Corpus Christianorum. Series graeca, 10), Turnhout: Brepols, 1982, p. 120. Перевод в кн.: Прп. Максим Исповедник, Вопросы и недоумения. Издание подготовили Г. И. Беневич и Д. А. Черноглазов (Византийская философия, 6; Σμάραγδος φιλοκαλίας), Святая гора Афон—Москва: Никея, 2010, с. 181, в этом месте неточен.
[58] В наше время наиболее известные обоснования мереологии предложил один из крупнейших современных философов и логиков Дэвид Льюис (David Kellogg Lewis, 1941–2001). См:. David Lewis, Parts of Classes, Oxford: Blackwell, 1991, pp. 29–59 (подробное обсуждение логических проблем синглетона и критика всех предлагавшихся путей их решения); idem, Mathematics is megethology, in: idem, Papers in philosophical logic (Cambridge studies in philosophy), Cambridge: Cambridge UP, 1998, pp. 203–229.
[59] Синглетон полагается возможным как частный случай пары, т.е. множество из одного элемента определяется через множество из двух элементов. Пара является множеством согласно аксиоме пары (она о том, что из любых двух множеств можно образовать новое множество, которым станет их пара); если эти множества идентичны, то есть если образовать пару из множества и его самого, то, согласно аксиоме экстенсиональности (той самой аксиоме, которая, например, не допускает существования чисел одинаковой величины, но при этом разных, то есть она требует, чтобы число 2 всегда было одним и тем же числом 2, запрещая 2 ≠ 2), получится множество, которое включает первое множество не два раза, а один: {a, a} = {a}. Эта схема построения синглетона не позволяет даже упоминать о том, что же означает быть элементом такого множества.
[60] Читатель может сам проделать такое упражнение. Множество {яблоко после Пети, яблоко Вани} упрощается до множества-синглетона {интересующее нас яблоко} согласно входящей в теорию Цермело-Френкеля аксиоме экстенсиональности и исходя из предположения, что речь идет об одном и том же яблоке. Но само множество из двух одинаковых элементов допускается в этой теории только на основании аксиомы пар, а эта аксиома определена только на множествах, а не на их элементах. Поэтому мы должны были изначально рассматривать образование пары из синглетонов {яблоко после Пети}, {яблоко Вани}. Но теория Цермело-Френкеля не может объяснить, откуда синглетоны берутся первоначально, то есть как они конструируются из своих единственных элементов. Понятие синглетона в этой теории существует, но оно определяется автореферентно, хотя сама теория запрещает автореферентность и специально разрабатывалась для исключения из теории множеств одного из парадоксов автореференции — парадокса Рассела (открытого — хотя и не опубликованного — еще раньше Рассела как раз Цермело). Парадокс Рассела указывает на противоречивость понятия самого большого множества — множества всех множеств, — которое должно, по определению, включать в себя и самоё себя. Но на противоположном конце иерархии множеств — там, где находится синглетон — опять всплывает автореференция.
[61] По понятным причинам, неконсистентная деонтическая логика разрабатывается в области конфликтов норм (и эта логика параконсистентная, то есть допускающая субконтрарные противоречия); ср. пионерскую статью: Newton C. da Costa, Walter Cornielli, Paraconsistent Deontic Logic, Philosophia 16 (1986) 293–305, а также: Marcelo E. Coniglio, Newton M. Peron, A Paraconsistent Approach to Chisholm’s Paradox, Principia 13 (2009) 299–326 (с указанной там библиографией). О неконсистентном подходе к формализации «логики Бога» (в духе молинизма) см.: Peña, Le choix de Dieu. О выборе между параконсистентной и консистентной логикой при принятии решений в неясных ситуациях см. основанное на экспериментальном психологическом материале исследование: D. Ripley, Contradictions at the borders, in: R. Nouwen, R. van Rooij, U. Sauerland, H.-Ch. Schmitz (eds), Vagueness in Communication. International Workshop, ViC 2009 held as part of ESSLLI 2009. Bordeaux, France, July 20-24, 2009. Revised Selected Papers (Lecture Notes in Artificial Intelligence, 6517; Dordrecht etc.: Springer, 2011), 169–188; согласно экспериментальным данным, у людей западной культуры воспитано некое отвращение от мышления противоречиями, тогда как китайцы довольно легко ориентируются в противоречивой реальности. Формализация проблемы «выбора из одного» потребовала бы, на мой взгляд, создания паракомплектной деонтической логики (допускающей A ≠ A) и, возможно, диалетической (допускающей А = не-А).
[62] Философская литература о трактовке субъектности, само собой разумеется, труднообозрима, поскольку по ней уже несколько столетий из года в год публикуются статьи и диссертации состоящих на службе научных сотрудников, каждый из которых вынужден подчиняться правилу publish or perish. Как всегда в подобных случаях, это не означает, что разнообразие основных идей особенно велико, а нам будет с ним справиться еще того легче, так как нас будут интересовать только миноритарные взгляды. В качестве современного и краткого, сфокусированного преимущественно на аналитической философии обзора можно рекомендовать, в ее историографической составляющей, монографию: Maximilian de Gaynesford, I: The Meaning of the First-Person Term, Oxford: Clarendon Press, 2006 (автор занят разработкой собственного подхода и, возможно, не всегда точен в изложении чужих, особенно такого для него сложного, как подход Витгенштейна, о котором см. ниже, раздел 5.5). В последние десятилетия появились исследования о субъектности в неевропейских (в основном, буддистских и индуистских) философско-религиозных традициях; в качестве обзора сделанного в этой области см. сборник: Self, No Self? Perspectives from Analytical, Phenomenological, and Indian Traditions, ed. by Mark Siderits, Evan Thompson, and Dan Zahavi, Oxford: Oxford UP, 2011.
[63] С его различением между ментальным (res cogitans) и материальным (res extensa). Декарт не выходит из русла схоластики, когда спрашивает и отвечает: Sed quid igitur sum? Res cogitans (в его же переводе на франц.: Mais qu'est-ce donc que ie suis ? Vne chose qui pense. «Но что же я такое? — Вещь мыслящая»); Meditationes de prima philosophia (Метафизические размышления, 1641), II, 8; Charles Adam, Paul Tannery, Œuvres de Descartes. 12 tomes, Paris: Léopold Cerf, 1897–1910, tome VII, p. 28 (лат.); tome IX, p. 22 (фр.).
[64] Картезианский дуализм тела и души (или, в современных модификациях, «сознания», mind) — cogito ergo sum — подразумевает, что мыслящий субъект, во-первых, существует, а, во-вторых, может рассматриваться как объект — то есть он существует как обычная часть мира, хотя и нематериальная часть. Наиболее известная современная защита такого подхода — у Дэвида Чалмерса: David J. Chalmers, The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (Philosophy of Mind Series), Oxford: Oxford UP, 1996. У такого подхода много критиков, но, в основном, с позиций материалистического монизма; см.: John R. Searle including exchanges with D. C. Dennett and D. J. Chalmers, The Mystery of Consciousness, New York: The New York Review of Books, 1997. О нерелевантности знаменитого «зомби-аргумента» Чалмерса в пользу картезианского дуализма см., в особенности: Keith Frankish, The Anti-Zombie Argument, Philosophical Quarterly, 57 (2007) 650–666. Впрочем, защита объективируемости субъекта ведется и с материалистических позиций; один из наиболее известных представителей такого подхода — Galen Strawson, Mental Reality. Second ed. with a new appendix (Representation and Mind), Cambridge, MA—London: The MIT Press, 2010 (1-е изд. 1994).
[65] Распространению термина «редукционистский» в данном контексте особенно послужила авторитетная апология такого подхода у Дерека Парфита (1942–2017) в его книге: Derek Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Oxfrod UP, 1984. Отрицание человеческой субъектности также типично для буддизма, где на этом строятся все аскетические учения.
[66] Как Мишель Фуко и Джорджо Агамбен; см.: Giorgio Agamben, Homo Sacer III. Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive. Tr. by D. Heller-Roazen. New York: Zone Press, 1999 [оригинал 1998 г.], pp. 137-146.
[67] G. E. M. Anscombe, “The First Person” [lecture delivered in 1974], in: eadem, The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe. Vol. 2: Metaphysics and the Philosophy of Mind, Oxford, 1981, pp. 21-36, at p. 36. Ср.: Peter T. Geach, On Beliefs about Oneself [1957], переиздано в: idem, Logic Matters, Oxford: Blackwell, 1972, pp. 128–129.
[68] J.-P. Sartre, Conscience de soi et connaissance de soi, Bulletin de la Société française de philosophie 42 (1947–1948), 49–91, цит. p. 63–64; переиздано полностью в: Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre, hrsg. von Manfred Frank (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 964), Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1991, SS. 367–411, а также без воспроизведения дискуссии после доклада — в: J.-P. Sartre, La Transcendance de l’ego et autres textes phénoménologiques. Textes introduits et annotés par Vincent de Coorebyter (Textes et commentaires), Paris: J. Vrin, 2003. См. также подробную реконструкцию логики этой работы в: Manfred Frank, Structure de l’argumentation de la conférence de Jean-Paul Sartre « Conscience de soi et connaissance de soi », Portique 16 (2005) 9–32. Удивительно, что эту работу даже не упоминает Stephen Priest, The Subject in Question: Sartre’s critique on Husserl in the Transcendence of the Ego (Routledge Studies in Twentieth Century Philosophy, 4), London—New York: Routledge, 2000, который, однако, детально разбирает полемику Сартра против идеи Эдмунда Гуссерля (1859–1938) о «трансцендентном ego» (Гуссерль разрабатывал ее в 1910-е и 1920-е годы). Значение этого доклада заслонилось более ранней и менее систематической работой 1936 года, которая отчасти расходится с окончательной позицией Сартра: Jean-Paul Sartre, La Transcendance de l’ego. Esquisse d’une description phénoménologique. Introduction, notes et appendices par Sylvie Le Bon (Bibliothèque des textes philosophiques), Paris: J. Vrin, 1966.
[69] A Treatise of Human Nature, 1.4.6 (опубликовано в 1739); David Fate Norton, Mary J. Norton, eds. David Hume, A Treatise of Human Nature. A Critical Edition (The Clarendon Edition of the Works of David Hume), 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 2007, vol. 1, p. 165, cf. p. 166; относительно философского контекста, особенно авторов XVII века, с которыми Юм тут полемизирует (это не только Декарт), см.: ibid., vol. 2, pp. 807–815. Среди адресатов полемики оказывается даже Локк, т.к. Юма не устраивал его подход к проблеме субъектности как к спору о словах (Локк идентифицировал субъектность со своим понятием «личности», о котором мы упоминали выше, гл. 2): ibid., vol. 1, p. 166; vol. 2, p. 811.
[70] Плутарх, De E apud Delphos, 17–18, 391 F–393 B; Frank Cole Babbitt, Plutarch, Moralia, vol. V (Loeb Classical Library, 306), Cambridge, MA,—London: Harvard UP, 1936 [repr. 2003], pp. 238–245.
[71] Евсевий Памфил, Praeparatio evangelica, XI, 11; Karl Mras, Eusebius Werke. Bd. 8.: Die Praeparatio Evangelica, Teil 2.: Die Bücher XI bis XV. Register (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, 43,2), Berlin: Akademie-Verl., 1956, SS. 28–31.
[72] Цит. гл. 18, 392 D; Babbitt, Plutarch, p. 242.
[73] Mras, Eusebius Werke, Bd. 8,2., S. 28.
[74] Формулировка первого издания (1781) Критики чистого разума, A402; ср. параллельное место во втором издании (1787), В429–430; цит. по: Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. Raymund Schmidt (Philosophische Bibliothek, 37a), Hamburg: Felix Meiner, 1956 [репринт изд. 1930], SS. 432–433 (параллельный текст обоих изданий, который в этом разделе совершенно разный, хотя излагается одна и та же мысль).
[75] Соответствующая история идей прослеживается в многочисленных работах Манфреда Франка. См., в частности (с указанной там библиографией): Manfred Frank, Fragments of a History of the Theory of Self-Consciousness from Kant to Kierkegaard, Critical Horizons 5 (2004) 53–136; idem, Non-objectal Subjectivity, Journal of Consciousness Studies 14 (2007) 152–173; idem, Präreflexives Selbstbewusstsein. Vier Vorlesungen, Stuttgart: Reclam, 2015.
[76] См.: Dieter Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789–1795), Stuttgart: Klett-Cotta Verlag, 1991. При этом сам Хенрих пришел к выводу об абсолютной непознаваемости «Я»: Dieter Freundlieb, Dieter Henrich and Contemporary Philosophy: The return to subjectivity (Ashgate New Critical Thinking in Philosophy), Aldershot—Burlington, VT: Ashgate, 2003, pp. 50–51.
[77] Характерна позиция Манфреда Франка (курсивы автора): “All of this suggests that self-consciousness must be thought of as an ontologically quite special phenomenon. We have treated it almost exclusively in negative terms, in that we have established what it isn’t and why definitive attempts to explain its nature fail. But what is it positively? We only stand a chance of answering this question when we begin to distrust attempts which presuppose in self-consciousness — as indeed our word usage itself almost unavoidably suggests — a kind of duality, a reflective kind of relation”; затем он неожиданно выражает надежду на то, что тут помогут открытия в нейробиологии (Frank, Non-objectal Subjectivity, p. 169).
[78] Принадлежит к древнейшему ядру собрания Изречений отцов (Apophthegmata patrum), т.е. было записано не позднее начала V века. В систематическом собрании это XI, 15 [Jean-Claude Guy, Les apophtègmes des Pères. Collection systématique. Chapitres X-XVI (Sources chrétiennes, 474), Paris: Cerf, 2003, p. 142], в алфавитном — Виссарион, 11 (PG 65, 141 D).
[79] Макарий Великий (Corpus Macarianum), Собрание типа II, Беседа I,2 [Hermann Dörries, Erich Klostermann, Matthias Kroeger, Die 50 geistlichen Homilien des Makarios (Patristische Texte und Studien, 4), Berlin: W. de Gruyter, 1964, S. 2] = (с микроскопическими разночтениями) Собрание типа I, Беседа IX,2 [Прп. Макарий Египетский (Симеон Месопотамский), Духовные слова и послания. Собрание I. Новое издание с приложением греч. текста, исследованиями и публикацией новейших рукописных открытий. Изд. подготовили А. Г. Дунаев и Винсен Депре при участии М. М. Бернацкого и С. С. Кима (Σμάραγδος φιλοκαλίας), Святая Гора Афон—Москва: Издание пустыни Новая Фиваида, 2014, c. 379]; рус. пер. А. Г. Дунаева (ibid.) с «подгонкой» под текст собрания типа II. Я соглашаюсь с доводами А. Г. Дунаева в пользу атрибуции Corpus Macarianum сирийскому автору конца IV века Симеону Месопотамскому; ср. мою рец. на первое изд. монографии Дунаева (2002): В. М. Лурье, Новая монография по проблемам Corpus Macarianum, в: ibid., cc. 962–968.
[80] Ученые до сих пор спорят о том, в какой мере религиозные воззрения Фихте были связаны с историческим христианством. В любом случае, из нашего византийского далека такие детали, о которых они спорят, неразличимы. Богословие Фихте в контексте византийской традиции могло бы показаться таким же «евангельским приуготовлением», как богословие античных философов. Подобно этим философам, Фихте отрицал творение из ничего и считал мир, таким образом, совечным Богу. Для Византии это бы означало, что он был язычником.
[81] Подражание Буало, 1970.
[82] Излагаемый ниже взгляд на философию Фихте, в основном, соответствует трактовкам Дитера Хенриха и его последователей. См.: Dieter Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, in: Subjektivität und Metaphysik, Festschrift für Wolfgang Cramer, hrsg. von Dieter Henrich und Hans Wagner, Frankfurt/Main: Vittorio Klostermann, 1966, SS. 188–232; англ. пер.: Fichte’s Original Insight. Tr. by David R. Lachterman, in: Contemporary German Philosophy, vol. 1, ed. by Darrel E. Christensen, University Park, PA: Pennsylvania State UP, 1982, pp. 15–53. См. также: Günter Zöller, Fichte’s Transcendental Philosophy: The Original Duplicity of Intelligence and Will (Modern European Philosophy), Cambridge: Cambridge UP, 1998.
[83] Примечание, внесенное автором во второе издание (1802) Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (Основы общего наукоучения, 1794) [к сожалению, мне недоступно Gesamtausgabe Фихте, издаваемое Баварской Академией наук, поэтому здесь и ниже цитирую его тексты по устаревшим изданиям]: Fichtes Werke, hrsg. von Immmanuel Hermann Fichte. 11 Bde. Berlin: W. de Gruyter, 1971 [репринт издания 1834–1846 гг.], Bd. I., S. 98 (Anm.). В текстах так называемого «раннего Фихте», первой половины 1790-х годов, присутствуют те же идеи, но еще без характерной для «позднего Фихте» заостренности мысли и выражения.
[84] Развитие образа «глаза» у Фихте прослеживается в: Henrich, Fichte’s Original Insight, pp. 47–48. Первоначально (в ранних трудах) вместо «глаза» было «зеркало», что подразумевало раздельность субъекта и объекта. Рискну предположить, что «глаз» был заимствован Фихте у неоплатоников, возможно, именно у Плотина; ср.: Lela Alexidze, Eros and Soul’s ‘Eye’ in Plotinus: What does it see and not see?, in: Platonism and its Legacy: Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, ed. by John F. Finamore and Tomáš Nejeschleba, Lydney: The Prometheus Trust, 2019, pp. 41–58; ср. подробно ее же обзор всей неоплатонистической традиции от Плотина до Симпликия и сопоставление с грузинским неоплатоником XII–XIII вв. Иоане Петрици: ლელა ალაქსიძე, ნეოპლატონიზმი თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს ძიებაში [Lela Alexidze, Neoplatonism in Search of Freedom and of True Self], Tbilisi: Logos, 2019 (English summary, pp. 373–400).
[85] Das System des Sittenlehre (Система этики, 1812), (выделено в тексте автором); Fichtes Werke, Bd. XI., S. 18. Перевожу «Geistigkeit» как «интеллектуальная деятельность», как это делают в переводах Фихте на английский.
[86] Henrich, Fichte’s Original Insight, p. 33.
[87] Историю этого сонета и все его варианты см. в: Christoph von Wolzogen, Fichtes Sonett “Was meinem Auge…” und seine Fassungen, in: idem, Aus Schinkels Nachlaß II. Kritische Edition, Frankfurt/Main [без указ. изд-ва], 2016, SS. 449–452.
[88] Lourié, Philosophy of Dionysius the Areopagite: Modal Ontology; Лурье, Модальная онтология Дионисия Ареопагита.
[89] Богословие Фихте в этой части может напоминать католического мистика Ангела Силезского (Angelus Silesius, псевдоним Johannes Scheffler, 1624–1677) с его отчасти эпатажным стихотворением Gott lebt nicht ohne mich (Бог не живет без меня):
| Я знаю, что без меня Бог не проживет и мгновения:
Стоит мне уничтожиться, Он неизбежно должен предать Дух. |
Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben,
Werd’ ich zu nicht, Er muß vor Not den Geist aufgeben. |
[Cherubinischer Wandersmann (Херувимский странник, 1674), Ι, 8; Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann, hrsg. von Wilhelm Bölsche. Jena—Leipzing: E. Diederichs, 1905, S. 2 = Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke in drei Bänden, hrsg. Hans Ludwig Held, Bd. 3., München: Hanser, 1952, S. 8.] Однако, при внешнем сходстве, смысл здесь различный до противоположности: Ангел Силезский строит свое высказывание на парадоксе, так как сохраняет противопоставление вечного Бога и тварного человека, который является частью мира, созданного из ничего. При этом, однако, предположение о возможном отделении «меня» от Бога является, как сказали бы современные логики, контрфактуальным, то есть нарушающим то, что есть в реальности, — и из него следует абсурдное следствие. Автор сопровождает свое стихотворение пометкой «Смотри Предисловие», а Предисловие (ibid., SS. LXXIII–LXXXVII) почти целиком посвящено святоотеческому учению о обожении (по благодати, а не по природе — в точном соответствии с византийскими авторами; соответствие достигается за счет того, что среди католических авторитетов автора идут на первом месте католические мистики XIV в. Иоганн Таулер и Ян ван Рёйсбрук, которые и на самом деле сохраняли очень многое от византийского богословия); этой ссылкой на Предисловие автор дает понять, что он говорит о «себе» только в состоянии спасения — то есть должного, а не обязательно наличного. Действительно, обожение предполагает необратимость, и поэтому предположение о разделении обоженного человека с Богом контрфактуально. В богословии Фихте такое предположение было бы тоже контрфактуальным, но по иной причине: речь о обожении тут идти не могла бы, а то, что для Ангела Силезского (и византийской традиции) было бы верно для обожения, принималось бы для эмпирического состояния человека (хотя Фихте, разумеется, пишет, что оно не идеально, и человек должен совершенствоваться). Разделения человека с Богом (посредством соединения с небытием) в системе Фихте не предусмотрено. Вопрос о влиянии на Фихте немецких мистиков (актуальных, скажем, для Лейбница), вероятно, еще нуждается в изучении.
[90] Yolanda Estes, Curtis Bowman, J. G. Fichte and the Atheism Dispute (1798–1800), Farnham—Burlington, VT: Ashgate, 2010.
[91] Недавно вышла прекрасная монография по богословию Краузе: Benedikt Paul Göcke, The Panentheism of Karl Christian Friedrich Krause (1781–1832): From Transcendental Philosophy to Metaphysics (Berliner Biliothek, 5), New York: Peter Lang, 2018. Авторское определение панэнтеизма у Краузе выдержано в неоплатонистической терминологии («Единое», das Eine, и «Всё», das All, которые сразу и противопоставляются, и совпадают), причем, даже с выписыванием ключевых терминов по-гречески; Karl Christian Friedrich Krause, Vorlesungen über das System der Philosophie. Bd. 1.: Intuitiv-analytischer Hauptteil. Der zur Gewissheit der Gotteserkenntniss als des höchsten Wissenschaftprinzipes emporleitendeTheil der Philosophie. 2., vermehrte Aufl. [hrsg. von Hermann Leonhardi], Prag: F. Tempsky, 1869, S. 333 (впервые издано в 1828).
[92] Николай Плотников любезно поделился со мной соображением, что термин «панэнтеизм» мог попасть в труды С. Л. Франка и других авторов «религиозного ренессанса» из русских переводов Вильгельма Дильтея, в частности, из «Сущности философии» (рус. пер. 1909) и «Типов мировоззрения» (рус. пер. 1912).
[93] «Краузизм» почти неизвестен в за пределами испано- (и португало-)язычного мира, но там литература о нем и его различных вариациях, специфичных для той или иной латиноамериканской страны, огромна. Применительно к интересующим нас аспектам, см.: Ricardo Pinilla Burgos, Filosofía de la religión y libertad religiosa en el krausismo, Ápeiron. Estudios di filosofía, 7 (2017) 27–44; ibid., pp. 43–44, о реакции на краузизм — резко негативной — испанских католических кругов середины XIX века. В ХХ веке разные виды краузизма отбрасывали религию, превращаясь в социалистические или им подобные учения.
[94] Juan Manuel Ortí y Lara, Lecciones sobre el sistema de filosofía panteistica del aleman Krause pronunciadas en la Armonía (Sociedad literario-católica), Madrid: Imprenta de Tejado, 1865, pp. 235–236: “...en la escuela de Krause la union del hombre con Dios es la identidad de estos dos términos, ó mejor, es la humanizacion de Dios y la divinizacion del hombre, es en suma la religion del ateismo”. В другом произведении [Juan Manuel Ortí y Lara, Krause y sus discipulos convictos de panteismo, Madrid: Imprenta de Tejado, 1864] Орти-и-Лара еще более выразителен в отношении и философского, и религиозного содержания «краузизма» и его интеллектуального контекста: речь идет «ложной науке» (“la falsa ciencia”) учеников и последователей Канта (p. V), которая представлена также «пантеистическими» учениями Шеллинга и Гегеля (p. VI), причем, эти новые немецкие пантеисты доходят до такого «крайнего зла и нечестия» (“un fondo de malicia e impiedad”), до которого не доходили «обычные пантеисты» (“los panteistas ordinarios”), потому что они не только имплицитно отвергают бытие Божие, «…но и придерживаются мнения о локализации Его на последней степени развития экзистенции, которое начинается на непонятно каком среднем термине между ничто и бытием [это явно намек на субъектность по Фихте и Краузе! — В. Л.], и заключает (Его) в человеке, или, как говорит новая школа, Человечестве, которое есть, в конечном итоге, идол, требующий божественных почестей; и это отнюдь не новый и духовный человек, возрожденный благодатию, а человек грешный, бунтующий, чувственный, набухший гордостью в грязной трясине страстей и порока» (“…pero aún tiene la presuncion de colocarlo en el último grado del desenvolvimiento de la existencia, que empieza en no sé qué término medio entre la nada y el sér, y concluye en el hombre, ó como dice la nueva escuela, en la Humanidad, la cual es en resolucion el idolo á que tribute los honores divinos; y no por cierto al hombre nuevo y espritiual regenerado por la gracia, sino al hombre de pecado, al hombre rebelde y sensual que se encenaga henchido de soberbia en el vil lodo de las pasiones y del vicio”; pp. VI–VII).
[95] В этом изложении я следую Zöller, Fichte’s Transcendental Philosophy, pp. 66–67, которое, в свою очередь, следует одному трактату Фихте — Das System der Sittenlehre nach den Principen der Wissenschaftslehre (Система этики согласно началам наукоучения, 1798).
[96] Ср. Zöller, Fichte’s Transcendental Philosophy, p. 67: “Characteristically, the further development of Fichte’s theory of freedom since the Wissenschaftslehre nova methodo accords increasing prominence to a conception of pure, nondeliberative willing and of freedom beyond choice”. Не менее характерно, что в этой части учение Фихте о свободе не пользуется вниманием со стороны исследователей.
[97] Параллельного издания на немецком нет до сих пор, но такое сопоставление сделано в английском переводе (часто цитирующем оригинал). Перевод представляет собой текст Краузе, дополняемый во всех случаях текстом обнаруженной ранее анонимной рукописи из Галле: Daniel Breazeale, transl. and ed., Fichte, Transcendental Philosophy: (Wissenschaftslehre) Nova Methodo (1796/1799), Ithaca, NY,—London: Cornell UP, 1992. Конспект Краузе (обнаруженный в 1980 г.) цитирую по первому изданию: Johann Gottlieb Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo, Kollegnachschrift K. Ch. Fr. Krause 1798/1799, hrsg. von Erich Fuchs (Philosophische Bibliothek), Hamburg: Felix Meiner, 1982 [2. Aufl. 1994]. Интересующие нас идеи изложены, согласно нумерации Краузе, в II, §§ 6-7; рукопись из Галле содержит для этого раздела ценные дополнения, см. особ. Breazeale, Fichte, pp. 169–193; Fichte, Wissenschaftslehre, SS. 64–81.
[98] Breazeale, Fichte, p. 171; Fichte, Wissenschaftslehre, S. 65.
[99] Breazeale, Fichte, p. 191; Fichte, Wissenschaftslehre, S. 79.
[100] Цит. по: Göcke, The Panentheism…, p. 181.
[101] См. особ.: Graham Priest, Dialectic and Dialetheic, Science and Society 53 (1989) 388–415. Прист считает, что Гегель вдохновлялся Фихте (pp. 400–401) и даже что “[t]he global dialectic is Hegel’s version of Fichte” (p. 401). Хенрих, напротив, считает, что Гегель развивал свои мысли независимо от Фихте (Henrich, Fichte’s Original Insight, p. 52). См. также о неконсистентности у Гегеля (особенно в связи с гегелевской трактовкой движения и изменения) в: Graham Priest, In Contradiction. A Study of Transconsistent. Expanded edition. Oxford: Clarendon Press, 2006.
[102] Еще раз напомним для систематичности: по Краузе (и, вероятно, по Фихте) абсолютная свобода была данностью и, при этом, свободой божественной; в патристике абсолютная свобода была данностью, но специфической для человека, а свобода божественная могла лишь достигаться; у Гегеля не было свободы как данности, и, понятно, не было места для свободы божественной, так как не было и концепции Бога, но свобода человеческая актуальной данностью не была и лишь подлежала актуализации.
[103] Basil Lourié, Does Human Soul Have an Owner? Patristic Anthropology and Wittgenstein on the Human Identity, Scrinium 16 (2020); DOI 10.1163/18177565-00160A03. См. здесь более подробную библиографию и разбор высказываний Витгенштейна.
[104] Hans Sluga, ‘Whose House is That?’ Wittgenstein on the self, in: The Cambridge Companion to Wittgenstein, eds. H. Sluga and D. G. Stern. Cambridge: Cambridge UP, 1996, pp. 320-353, цит. p. 328. Автор перифразирует слова Витгенштейна об ощущении боли: Sie ist kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts! “Это не нечто, но это и не ничто!” (L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen / Philosophical Investigations. ed. G. E. M. Anscombe, R. Rhees, tr. G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1958 [repr. 1999], pp. 102, § 304). В целом о субъективности у Витгенштейна можно особо рекомендовать еще Hans Sluga, Subjectivity in the Tractatus, Synthese, 56 (1983) 123–139 и классический комментарий: G. E. M. Anscombe, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. Second Edition, Revised. New York: Harper, 1963, p. 169 et passim (Энском, будучи одной из ближайших учениц Витгенштейна, понимала его идеи о субъективности, но не соглашалась с ними, считая «Я» иллюзией; см. раздел 4.1).
[105] Tractatus logico-philosophicus, 5.632; здесь и ниже Трактат цитируется по изд: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. The German text of Ludwig Wittgenstein’s Logisch-philosophische Abhandlung with a new Translation by D. F. Pears & B. F. McGuinness (International Library of Philosophy and Scientific Method), London—New York: Humanities Press, 1961, p. 116.
[106] Имею в виду знаменитое изречение Die Welt ist alles, was der Fall ist (Tractatus, 1), перевод которого предоставляю фантазии читателя.
[107] Wittgenstein, Tractatus, pp. 116, 118.
[108] L. Wittgenstein, Preliminary Studies for the “Philosophical Investigations” Generally known as the Blue and the Brown Books, ed. by Rush Rees, Oxford: Blackwell, 1969, pp. 63-64, 72.
[109] Запись от 23.05.1915: Es gibt wirklich nur eine Weltseele, welche ich vorzüglich mein Seele nenne, und als welche allein ich das erfasse, was ich die Seelen anderer nenne «Реально существует только одна мировая душа, которую я предпочитаю называть моей душой, как будто бы только я понимаю, что я называю душами других»; L. Wittgenstein, Notebooks 1914–1916. Ed. G. H. von Wright and G. E. M. Anscombe with an English translation by G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1961, p. 49.
[110] Wittgenstein, Tractatus, p. 116.
[111] Wittgenstein, Tractatus, p. 148.
[112] “It is difficult to get rid of such a conception once one has it. <…> One may well want to do so; e.g. one may feel that it makes the ‘I’ too godlike”; Anscombe, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, p. 168-169. Здесь же она ссылается и на дневниковую запись от 8.07.1916: Es gibt zwei Gottheiten: die Welt und mein unabhängiges Ich «Существуют две божественности: мир и мое независимое Я» (Wittgenstein, Notebooks, p. 74).
[113] Ангел Силезский, Херувимский странник, III, 28; Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke, Bd. 3., S. 78.
[114] Evagrius, De oratione, 124; PG 79, 1193 C (на греческом языке дошло под именем Нила Синайского; атрибуция Евагрию сохранилась в древних переводах).
[115] Ueber das Sehen des Menschen, in: Hermann von Helmholtz, Vorträge und Reden, 5. Aufl., 2 Bde, Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1903, Bd. 1., SS. 85–117, цит. SS. 88–89, 116–117; рус. пер. (с изм.) по: Сочинения Гельмгольца. Издание М. Филиппова. № 4. 1) Научное и философское исследование зрения. 2) Об академической свободе, Санкт-Петербург: Тип. А. Пороховщикова, 1897, сс. 4–5, 32.
[116] Не все историки физики и философии принимали это заявление всерьез, не говоря о том, что далеко не все вообще понимали, о чем тут речь. См. компетентный и адекватный очерк развития боровской концепции дополнительности в: Makoto Katsumori, Niels Bohr’s Complementarity: Its Structure, History, and Intersections with Hermeneutics and Deconstruction (Boston Studies in the Philosophy of Science, 286), Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2011. Об отношении к Бору современных ему философов см., в частности: David Favrholdt, Niels Bohr and Realism, in: Niels Bohr and Contemporary Philosophy (Boston Studies in the Philosophy of Science, 153), ed. by Jan Faye and Henry J. Folse, Dordrecht: Springer Science+Business Media, 1994, pp. 77–96, особ. pp. 94–95: помимо отсутствия общего с философами языка, отмечается, в частности, что “Bohr did not believe in the sort of unity of science dreamt of by logical empiricists such as Neurath, Hempel, and Carnap” (p. 95). — Действительно, Бор мыслил единство науки неконсистентным, в котором редукция одних уровней к другим (например, биологии к физике или психологии к биологии) исключалась бы принципом дополнительности.
[117] Ср., напр.: D. S. Kothari, The Complementarity Principle and Eastern Philosophy, in: Niels Bohr: A Centenary Volume, ed. by A. P. French and P. J. Kennedy, Cambridge, MA,—London: Harvard UP, 1985, pp. 325–331; Arun Bala, Complementarity Beyond Physics: Niels Bohr’s Parallels, New York etc.: Palgrave Macmillan, 2017.
[118] Ср., в частности: Roland Omnès, The Interpretation of Quantum Mechanics (Princeton series in physics), Princeton, NJ: Princeton UP, 1994, pp. 539–541 (endnote 6); Stig Stenholm, The Quest for Reality: Bohr and Wittgenstein, Two Complementary Views, Oxford: Oxford UP, 2011; последняя работа разделяет популярное в историографии представление о том, что Витгенштейн, якобы, не следил за развитием современной ему физики, особенно квантовой. Это опровергается фактами из биографии Витгенштейна, хотя мы и не можем сказать, насколько глубоко он вникал в идеи теоретиков квантовой механики; см. особ. материал, собранный в статье: Karl Steinkogler, Wittgenstein, Modern Physics and Zeilinger’s Pronouncement, or How Naïve Was Wittgenstein? (Revised and updated), on-line at https://philpeople.org/profiles/karl-steinkogler. Интересующая нас проблема субъектности во всех этих работах не обсуждается.
[119] В письме своему другу и шведскому коллеге Карлу Озеену от 5 ноября 1928 г. Бор излагает основную идею своей еще не опубликованной статьи в формулировках, еще более близких к Канту: философия требует объективного отношения к содержанию сознания, но сама «идея субъекта, нашего собственного ego» (Tanken om Subjektet, om vort eget Jeg) также входит в содержание сознания; Niels Bohr, Collected Works. Vol. 6: Foundations of Quantum Physics I (1926–1932), ed. by Jørgen Kalckar, Amsterdam: North-Holland, 1985, pp. [431] (датский оригинал), [190] (англ. пер.).
[120] Статья была написана по-немецки к 50-летнему профессорскому юбилею Макса Планка (автора концепции кванта действия, основоположной для будущей квантовой физики), отмечавшегося в 1929 году [N. Bohr, Wirkungsquantum und Naturbeschreibung, Naturwissenschaft 17 (1929) 483–486, цит. р. 486]; см. об этом (и об осторожной реакции Планка на идеи Бора) в: Jørgen Kalckar, Introduction [to Part II], in: Niels Bohr, Collected Works. Vol. 6, pp. [189]–[195]. Репринтное воспроизведение первого издания нем. оригинала: ibid., pp. [203]–[206], цит. p. [206]; английский перевод (“The Quantum of Action in the Description of Nature”) неизвестного авторства, но Бором авторизованный: Niels Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature, Cambridge: Cambridge UP, 1934 [repr. 1961], pp. 92–101, цит. р. 100; репринт в Niels Bohr, Collected Works. Vol. 6, pp. [208]–[217], цит. p. [216]); как можно заметить, в нашем отрывке он имеет небольшие стилистические отличия от немецкого. В 1929 г. был впервые опубликован также датский перевод, с тех пор не раз переиздававшийся; издатели Collected Works не посчитали его самостоятельным источником текста. Русский перевод цитаты мой, т.к. опубликованный перевод (с немецкого) А. М. Френка в этом месте меняет смысл на противоположный: «…мыслителям не пришло в голову, что здесь может идти речь о невыявленной дополнительности»; Нильс Бор, Избранные научные труды в двух томах. Под ред. И. Е. Тамма, В. А. Фока, Б. Г. Кузнецова (Классики науки), Москва: Наука, 1970–1971, т. 2, с. 60.
[121] P. Gallay, Grégoire de Nazianze, Discours 27–31 (SC 250), Paris: Cerf, 1978, pp. 194, 196. Stamatios Gerogiorgakis, The Byzantine Liar, History and Philosophy of Logic, 30 (2009) 313–330.
[122] Критика статьи Graham Priest, The Structure of the Paradoxes of Self-Reference, Mind 103 (1994) 25–34, у Nicholas J. J. Smith, The Principle of Uniform Solution (of the Paradoxes of Self-Reference), Mind 109 (2000) 117–122, цит. p. 120: “…solution… involves accepting the contradiction… and thus may be likened to the solution of one’s weight problem which consists in learning to love one’s body as it is”.
[123] См., в частности: Graham Priest, Doubt Truth to be a Liar, Oxford: Clarendon Press, 2006, pp. 119–129. Ср.: “Die abergläubische Angst und Verehrung der Mathematiker vor dem Wiederspruch”; Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, Anhang I, 17; L. Wittgenstein, Remarks on the Foundations of Mathematics, ed. by G. H. von Wright, R. Rhees, G. E. M. Anscombe. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1956 [repr. Cambridge, MA: MIT Press, 1967], p. 53.
[124] По истории и современному развитию логических концепций, связанных с логическим квадратом, включая также неконстистентные логики, см.: Around and Beyond the Square of Opposition, ed. by Jean-Yves Béziau, Dale Jacquette (Studies in Universal Logic), Basel: Springer, 2012 (с дальнейшей библиографией).
[125] См.: Steven French, Décio Krause, Identity in Physics: A Historical, Philosophical, and Formal Analysis, Oxford: Oxford UP, 2006; N. C. A. da Costa, C. de Ronde, Non-reflexive Logical Foundations for Quantum Physics, Foundations of Physics 44 (2014) 1369–138o; D. Krause, J. R. B. Arenhart, Is Identity Really so Fundamental?, Foundations of Science 24 (2019) 51–71.
[126] Говоря здесь и ниже о топологической сепарации в неконсистентных геометриях, мы следуем Chris Mortensen, Inconsistent Geometry (Studies in Logic, 27), London: College Publications, 2010, pp. 5-10.
[127] Приведу несколько удобных определений, которые многим и так известны, и без которых остальные могут обойтись. Но удобнее их знать. Открытым множеством называется такое множество, все элементы которого являются внутренними, т.е. принадлежат только этому множеству. Комплементом множества называется та часть универсума, на котором оно определено, которая не входит в само это множество. Замкнутым множеством называется такое множество, комплементом которого является открытое множество (иными словами, оно включает свою границу, а элементы, принадлежащие границе, не являются внутренними). Псевдо-комплементом множества называется такое множество, которое отличается от его комплемента включением или невключением границы (если в комплементе граница есть, то в псевдо-комплементе ее не будет, и наоборот).
[128] Топологически субконтрарное противоречие соответствует границе замкнутого множества со своим псевдо-комплементом: каждое из этих двух множеств — исходное и его псевдо-комплемент — включают в себя границу, но граница у них общая, причем, каждое из двух множеств включает эту границу исключительным образом. Получается, что граница как бы удваивается, оставаясь одной и той же. Элементы границы принадлежат одному множеству и не принадлежат другому, но при этом принадлежат другому и не принадлежат первому.
[129] О параконсистентной логике в естественном языке при использовании так называемых непрямых значений, включая поэтические тропы, см.: Basil Lourié, Olga Mitrenina, The Role of Truth-Values in Indirect Meanings, in: Language, Music and Computing. LMAC 2017, ed. by Polina Eismont, Olga Mitrenina, Asya Pereltsvaig (Communications in Computer and Information Science, 943), Cham: Springer, 2019, pp. 185–206.
[130] Basil Lourié, A Logical Scheme and Paraconsistent Topological Separation in Byzantium: Inter-Trinitarian Relations according to Hieromonk Hierotheos and Joseph Bryennios, in: Relations: Ontology and Philosophy of Religion, ed. by D. Bertini and D. Migliorini (Mimesis International. Philosophy, n. 24) [Sesto San Giovanni (Milano)]: Mimesis International, 2018, 283–299; idem, What Means “Tri-” in “Trinity”? An Analysis of the Eastern Patristic Approach, Journal of Applied Logic (forthcoming).
[131] Топологически контрадикторное противоречие соответствует границе между двумя открыто-замкнутыми множествами, т.е. множествами, которые одновременно замкнутые и разомкнутые (closed and open = clopen sets). Такая граница одновременно не принадлежит ни одному из этих множеств и принадлежит исключительно каждому из этих множеств. Clopen sets — это такие открытые множества, комплементы к которым являются тоже открытыми множествами, например, пустое множество или множество «всё».
[132] Относительно античности сохраняет значение: Alexander Rüstow, Der Lügner. Theorie, Geschichte und Auflösung, Leipzig: Teubner, 1910 (диссертация, защищенная в 1908 г. в Эрлангене). Это труд молодости будущего крупнейшего экономиста и политического мыслителя Германии Александера Рюстова (1885–1963), который вскоре прервал свою научную деятельность из-за войны, а после войны резко изменил ее направление. История парадоксов в античной логике всё еще ждет фигуры, которой уже становился, но так и не стал Рюстов. Относительно трактовок парадокса лжеца в латинской схоластике см.: Catarina Dutilh Novaes, A Comparative Taxonomy of Medieval and Modern Approaches to Liar Sentences, History and Philosophy of Logic 29 (2008) 227–261.
[133] Рюстов посвятил патристике и Византии несколько страниц: Rüstow, Der Lügner, SS. 102–107, — которые, впрочем, содержат важные библиографические сведения. Некоторую логическую экспликацию этого материала см. у Stamatios Gerogiorgakis, The Byzantine Liar, History and Philosophy of Logic 30 (2009) 313–330, особ. pp. 326–327.
[134] Mark DelCogliano, Origen and Basil of Caesarea on the Liar Paradox, Augustinianum 51 (2011) 349–365.
[135] Basile Lourié, Michel Psellos contre Maxime le Confesseur : l’origine de l’ « hérésie des physéthésites », Scrinium 4 (2008) 201–227; idem, Eustratius of Nicaea, a Theologian, Scrinium 16 (2020) (forthcoming).
[136] См.: Lourié, Eustratius of Nicaea; idem, Proclus’s Triadology: To Christianise or to Reject? The Byzantine Background of Ioane Petritsi’s Triadology, Philosophical-Theological Reviewer (Tbilisi) (2019) (forthcoming).
[137] Gerhardt Podskalsky, Nikolaos von Methone und die Proklosrenaissance in Byzanz (11.–12. Jh.), Orientalia Christiana Periodica 42 (1976) 509–523.
[138] Theologica, I, 54; Paul Gautier, Michaelis Pselli Theologica, vol. I (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana), Leipzig: Teubner, 1989, pp. 208–213. Логическому разбору этого рассуждения Пселла посвящена работа Gerogiorgakis, The Byzantine Liar, выводам которой в отношении Пселла я следую.
[139] Gautier, Michaelis Pselli Theologica, vol. I, p. 212.
[140] Из новейших работ см.: David Hyde, Are the Sorites and Liar Paradox of a Kind?, in: Paraconsistency: Logic and Applications, ed. by K. Tanaka, F. Berto, E. Mares, F. Paoli. (Logic, Epistemology, and the Unity of Science, 26), Dordrecht: Springer, 2013, pp. 349-366, а также историю вопроса в недавней диссертации (автор которой готовит к публикации ее результаты): Sergi Oms Sardans, On Common Solutions of the Liar and the Sorites. PhD Thesis. Universitat de Barcelona, 2016.
[141] Сводку сказанного по этому поводу античными авторами, вместе с анализом, см.: Konstantinos Spanoudakis, Philitas of Cos (Mnemosyne. Bibliotheca classica Batava, Supplementum 229), Leiden: Brill, 2002, pp. 7, 55, 340. Филит умер если не прямо от бессонницы, то от истощения из-за своих трудов над парадоксом лжеца; по крайней мере, над его памятью так шутили.
[142] “…As far as we know, nobody has ever died because of the Sorites. This might be due, though, to the fact that, given that there is no sharp boundary between life and death, no living being can die —if there can be living beings at all”; Oms Sardans, On Common Solutions, p. 171.
[143] Я употребляю выражение «идентичность человека», чтобы избежать общепринятого современного термина “personal identity”, т.к. упоминание слова «личность» откроет наше рассуждение для целого урагана информационных шумов.
[144] E. J. Lowe, Subjects of Experience (Cambridge Studies in Philosophy), Cambridge: Cambridge UP, 1996, pp. 14–51; idem, ‘The Probable Simplicity of Personal Identity’, in Personal Identity: Simple or Complex?, in: Personal Identity: Complex or Simple?, ed. by G. Gasser and M. Stefan, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 137–155, p. 137: “My aim <…> is to show that personal identity is, in all probability, ‘simple’ rather than ‘complex,’ in the sense that there is no informative and non-circular criterion of personal identity”; в других статьях этого сборника представлены другие подходы к проблеме, и авторы часто полемизируют друг с другом. Ср. также (во многом зависимую от Лау) статью: Trenton Merricks, There Are No Criteria of Identity Over Time, Noûs 32 (1998) 106–124.
[145] Продолжая параллельно вести изложение на языке топологии, добавим, что «Я» — это открыто-замкнутое множество, clopen set: множество открыто, т.к. не имеет в себе не внутренних элементов, но и замкнуто, т.к. его комплемент «не-Я» тоже является открытым множеством. Поэтому граница между «Я» и «не-Я» обладает свойством диалетичности: она одновременно не принадлежит ни «Я», ни «не-Я», и принадлежит каждому из этих множеств эксклюзивно.