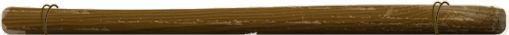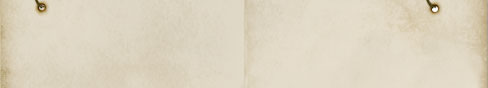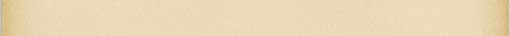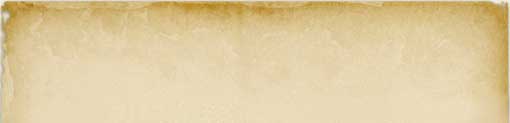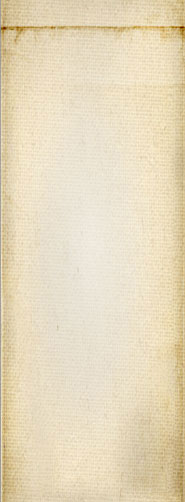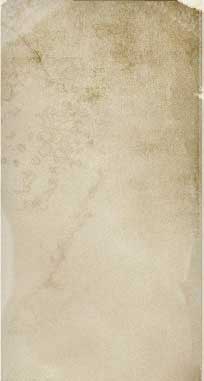Калужская епархия Истинно-Православной Церкви
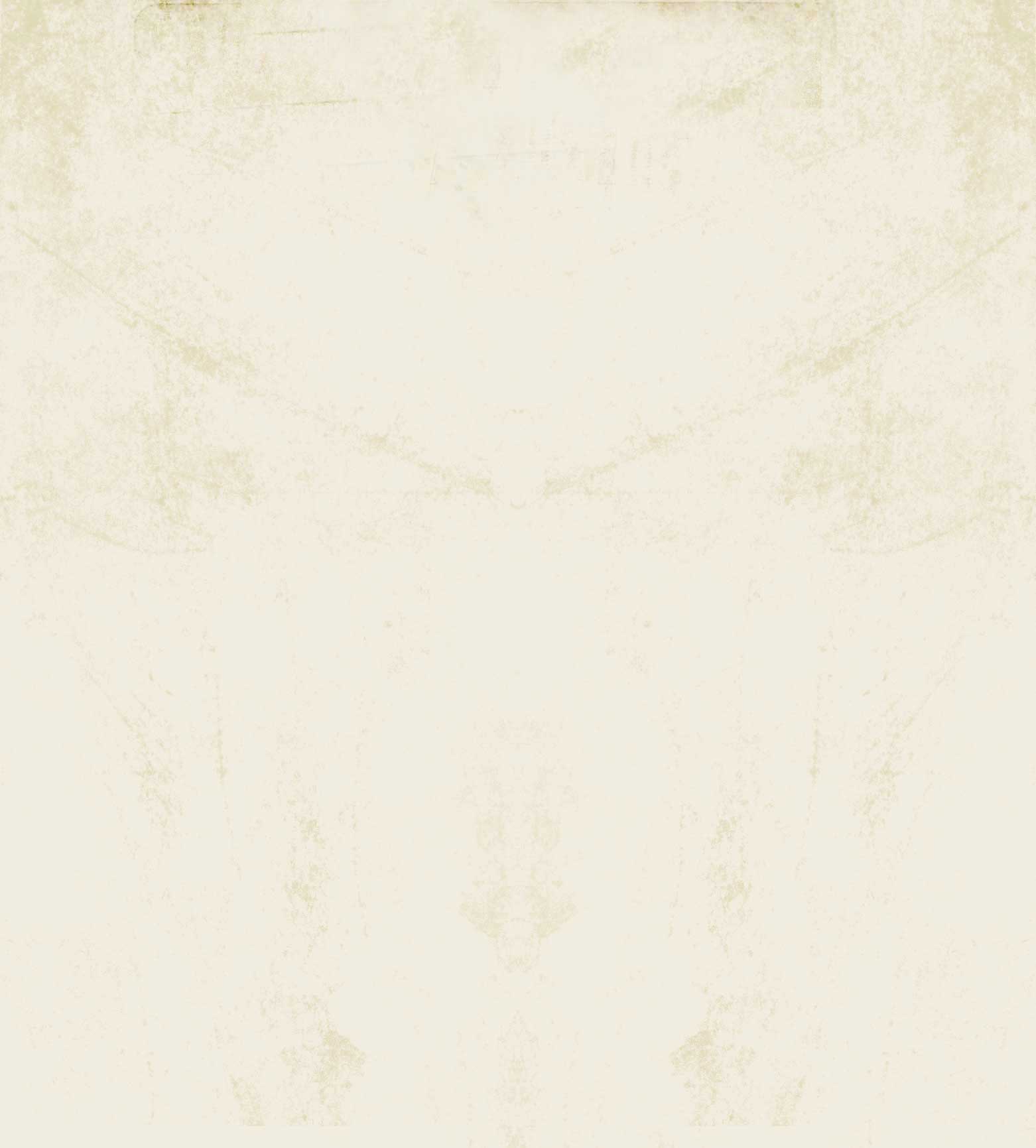
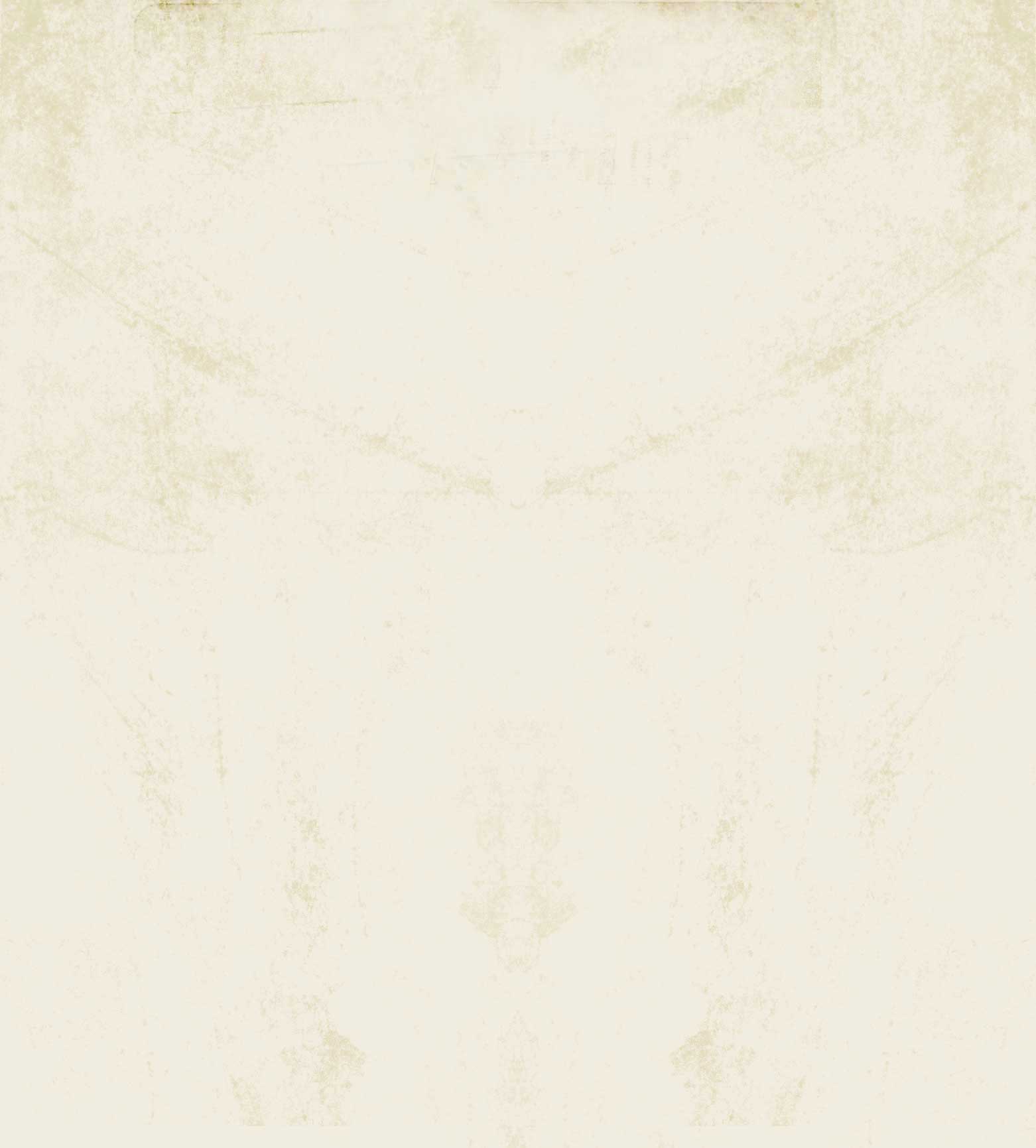




(продолжение, предыдущая часть здесь)
Но еще надо упомянуть об исповеди. На исповеди что может сказать священник верующему, который исповедуется? По-хорошему, в среднем, ничего сказать не может, потому что обычно священник не знает, как решать те проблемы, которые есть. То есть он может сказать то же самое, что и человек, который исповедуется, может сам себе сказать. В очень редких случаях он может сказать что-то особенное, чего человек не знает, потому что, может быть, у него есть какой-то опыт столкновения именно с этими проблемами.
У нас, слава Богу, нет старцев. Чего нет, того нет. То есть мы совсем этой заразе, так сказать, не подвержены. Все-таки у нас больше священники, которые более-менее трезво смотрят на себя, со скромностью. Но бывает, что священники начинают использовать эти проблемы. Это евхаристический шантаж. И они используют исповедь для того, чтобы оказывать какое-то порабощающее влияние на прихожан.
Причем, в отличие от Московской патриархии, у нас трудно переменить священника, потому что нет никакого выбора в пределах повседневной досягаемости для одного человека. Священник, скорее всего, может быть один, редко, если два, потому что их вообще мало. И это серьезная проблема. Он просто может ставить какие-то совершенно идиотские условия прихожанам. Может быть, он считает, что так надо, но, собственно, кто ты такой, чтобы ставить эти условия?
Священник же не имеет права на исповеди заставлять прихожанина делать какие-то вещи или запрещать делать какие-то вещи, которые не прописаны в канонах, а «от ветра главы своея». А некоторые прихожане не знают это, но лучше, конечно, им самим это все знать. Они, в принципе, не обязаны это знать, а священники обязаны, но часто тоже не знают или просто слишком полагаются на свой опыт, на свою оценку. Но в принципе, это все исправляется, когда прихожанин может обратиться и к другому священнику или к епископу. В нашей ситуации это тоже так и бывает, но не всегда. Бывает, что технически это все очень трудно или носит какой-то элемент скандальности.
Еще (я говорю об общих проблемах) в наших приходах надо жестко пресекать такие случаи, когда священник использует исповедь либо для того, чтобы усиливать свое личное влияние, либо для того, чтобы насаждать свои личные какие-то, совершенно психованные, представления о том, как люди должны жить православно, то есть налагать какие-то правила насильно, какие канонами не налагаются.
Наконец, бывают просто сложные случаи, которые священнику реально трудно решить. Если священник разумный, он осознает, что ему трудно. Он должен обращаться по инстанции — либо к какому-то старшему священнику, который рядом служит, типа благочинного, либо к епископу, либо просто к какому-то другому священнику, либо просто посоветоваться с мирянином. Это тоже можно. Мирянин может гораздо лучше понимать, что с такими случаями делать. А другие, бывает, рубят с плеча. Здесь, конечно, хорошо, если человек в своем положении что-то спросит у другого.
В общем, у нас со священниками возможные всякие такие неприятные моменты, ничего там катастрофического нет, но к священнику нужно всегда относиться критически. Если он ничего такого не вытворяет, что заставляет переставать считать его священником, ничего такого скандального не выдает, нормально служит, но при этом у него какие-то мысли, которые он навязывает, его нужно, так сказать, аккуратно послать.
Если есть какие-то мысленные сомнения, то посоветоваться с кем-то из мирян. Наверняка найдется кто-то грамотный. У нас с этим проще, чем в Московской патриархии, чтобы нашелся кто-то грамотный. И посоветоваться надо, тогда будет видно, что он говорит какую-то чушь. У нас, все-таки, такие отношения с духовенством, что кто-нибудь может сказать, что, бать, ты вообще тут какую-то дурь развел. Если священник более-менее нормальный, то он скорректируется в поведении. А если он не корректируется, что бывает редко, но бывает (я представил момент из жизни другой юрисдикции дружественной, но неважно, это в любой может такое быть), то дальше нужно применить власть. То есть надо говорить с епископом.
У нас епископы доступны. По крайней мере, тот епископ, который является правящим для данного прихода, доступен для прихожан настолько, что любой мирянин может с ним поговорить. Тем более, современные средства связи позволяют пользоваться электронной почтой, тогда еще легче.
Если резюмировать эту часть, то наши приходы должны обеспечивать причастие и исповедь, но причастие представляет нечто большее, нежели просто причащение. Это также и какое-то полноценное участие в богослужении. Для этого, подчеркну, очень важно объяснять значимость этого богослужения людям, потому что мы не можем и не должны пользоваться всякими «заманухами» политического характера или еще какими-нибудь, чтобы делать просто клуб по интересам.
В этом смысле лучше избегать всяких чаепитий после служб, кроме тех ситуаций, когда люди съезжаются издалека, и дальше далеко ехать, поэтому надо накормить. Но есть много мест, где люди съезжаются не издалека и кормить их совершенно необязательно. Например, приход в городе. Там в основном собираются горожане, зачем их кормить? Они дома поедят. Тогда лучше этих тусовок не устраивать, чтобы люди разошлись и все, и только по делу, так сказать, общались.
Надо объяснять значимость самого богослужения. Потому что, если ты вникаешь в богослужение, ты начинаешь понимать православие. Причем, наше богослужение так устроено, что человек с очень не философски настроенными мозгами тоже может все основное понять, что нужно. Там все догматические истины, все аскетические истины, все основное про все праздники, про все значимые события священной истории — про все это в течение года говорится. Если читать так, чтобы люди слышали и понимали слова, если вдобавок священник в проповеди будет еще объяснять ключевые моменты, то, если люди будут следить по книжкам или просто по распечаткам текстов (сейчас все наши богослужения есть в Интернете), можно много узнать. Поэтому, если знать тексты богослужений, в принципе, можно больше ничего не читать. Можно на этом выехать. Истинная догматика, особенно в лучших ее частях, написана по материалам богослужений фактически. И очень хорошо написана. К этому надо приучать.
А как происходит иначе? Дореволюционная традиция прекрасно прижилась в зарубежной церкви и бывает у нас сейчас, — попы служат только то, где они сами могут покрасоваться. Прежде всего, литургии, а за пределами литургии все сокращается очень сильно. А когда все-таки что-то читается, то в алтаре болтовня. Для попов это просто пауза, когда можно как-то оттянуться, поговорить о чем-то. И бывает, что настолько громко болтают, что это слышно и мешает людям. Я это говорю о жизни вполне конкретных храмов.
Конечно, если поп старый, то он привык к тому, что богослужение слушать никогда не надо, надо поговорить. Тогда просто лучше, чтобы он оставался в алтаре один, а все остальные выходили. Это воспринимается как подлость, и такой священник старается туда кого-то затащить, чтобы было, с кем поболтать. Здесь надо стоять, как адамант, а не идти туда к нему, зная, чем все кончится.
Конечно, это может создавать разные моральные трудности, если не начинаешь на голом месте, где еще нет этой проблемы (то есть старых попов с устойчивым иммунитетом ко всякому богослужению). Это в истинном православии. В МП тоже, но, Бог с ним, в МП. Там это нормально, пусть будет. Но и у нас те же проблемы. Они и другим не дают. И так вот сразу начинает воспитываться молодежь. Если приходят какие-то мальчики помогать в алтаре, они это видят, они на этом вырастают и уже по-другому не могут. Считать, что на службе можно молиться, — это воспринимается как какой-то курьез. Можно во время литургии, евхаристического канона пять минут помолиться, но чтобы еще что-то там молиться — кто-то там прочитает, хор споет.
Та история с МП, к сожалению, касается и ИПЦ. Есть история из жизни: на какое-то замечание бабушки дьякон отвечает: «Это вы пришли сюда молиться, а мы тут работаем».
Мы сейчас можем себе позволить (если не будем набирать попов из Московской патриархии или будем делать это очень селективно) воспитывать своих клириков так, чтобы они приходили тоже помолиться, как простые люди. Но при этом чтобы еще хлопотали по хозяйству. Это, собственно, чем отличается функция попа в богослужении. Но не только же он хлопочет по хозяйству. Там обязательно бывают, кроме попа и дьякона, всякие прислужники. Дьякона может и не быть на маленьком приходе. Прислужники следят за кадилом, которое всегда любит потухнуть в самый ненужный момент. Есть там и еще, кому заниматься хозяйством. Они тоже должны молиться. В принципе, это все возможно, если не попадать в струю такого разлагающего влияния. А если попадать, то это очень плохо.
И резюме такое, что мы не должны подражать такой приходской жизни, которая была нормальной для дореволюционной церкви и зарубежной церкви. А должны подражать каким-то более молитвенным традициям, которые, естественно, нам оставила катакомбная церковь, потому что невозможно было «не молиться, а служить». На такие риски не пойдет нормальный человек, для которого важно и служить, и молиться.
Но, к сожалению, этот опыт для нас, хоть мы ему должны преемствовать, менее доступный, чем дореволюционный, зарубежный и МП-шный, который, в этом смысле, точно такой же: всюду попы совершенно одинаково плохо переносят элементы службы, которые не связаны с тем, чтобы пойти побренчать кадилом и со свечкой погулять, чтобы все проснулись. То есть попы очень скучают под каноны.
Епископ зарубежной церкви, под юрисдикцией которой мы были некоторое время, пытался даже запретить нам служить утреню полным чином, то есть, с чтением библейских песен. Мотивировалось это тем, что в других приходах иначе, а не должно быть разногласия. Но у нас же, вроде, истинная церковь? Устав же такой. Конечно, мы его не слушались, но и не спорили. Зачем его расстраивать, зачем спорить? Но просто это симптоматично.
(продолжение следует)