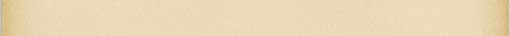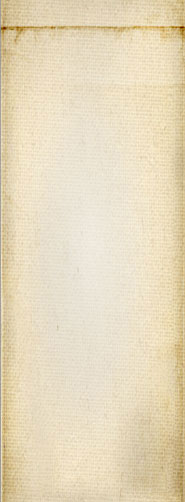Калужская епархия Истинно-Православной Церкви






Полное Жизнеописание святителя Игнатия Кавказского / [Подг. к изд. Т. Н. Семеновой и Ю. Р. Редькиной]. М.: Изд-во им. Св. Игнатия Ставропольского; СПб.: Российская Национальная библиотека, 2002. 512 с.
Что же, собственно, означает "пойти" в монахи? — Это и есть тот самый вопрос, на который отвечает нам появившееся, наконец, подлинное Житие святителя Игнатия Брянчанинова (1807—1867), составленное его близкими учениками под общей редакцией его родного брата (и тоже близкого ученика). Более 120 лет назад, в 1881 г., дореволюционная духовная цензура дозволила издать из него жалкие отрывки, так что сокращению подверглись, прежде всего, именно те места, где и рассказывается о самых главных трудностях на христианском пути. Это я намеренно сказал "на христианском пути", а не "на монашеском". Монашество — это всего лишь последовательно-христианская жизнь. Монашество внешнего человека (то есть монашество видимое) может и не быть истинным, но истинно-христианская жизнь всегда приведет к монашеству истинному человека внутреннего. Сам святитель Игнатий написал как-то, что "в наше время", скорее, встретишь "монаха во фраке", чем монаха в рясе, — то есть в его время; а в наше, надо полагать, тем более (и не надо тут ссылаться на то, что фраки теперь носят только дирижеры в филармонии).
Захотевшему стать христианином нужно преодолеть такое специфическое испытание. Человек видит себя, еще далеко от христианства, и видит вдалеке христианство: ему нужно порвать с обычаями мира сего и достигнуть спасительной пристани Церкви. Предположим, он решается, порывает с миром, бежит и достигает… но тут оказывается, что то, чего он достиг, — это еще не спасительное пристанище, а всего лишь поворот дороги, за которым открывается трасса, куда более длинная и крутая; самое же главное — человек начинает догадываться, что в конце и той, следующей трассы будет только лишь новый поворот… Сколько бы таких поворотов ни оказалось в христианской жизни, особенное значение имеют два первых отрезка пути: до первого поворота и до второго. Поэтому наше обозрение биографии святителя Игнатия мы сосредоточим именно на них.
1. До первого поворота: марш-бросок через "реальное православие"
В детстве святитель Игнатий христианского воспитания не получил — в тогдашних дворянских семьях это было невозможно (за редчайшими исключениями вроде семьи Хомякова): детей крестили, приучали к "обрядовому минимуму" (очень маленькому, да это и неважно), а затем учили по-настоящему только обычаям сословия — абсолютно антихристианским и безбожным. Но противостоять этому было гораздо труднее, чем, скажем, безбожному воспитанию советской поры: за авторитетом сословных традиций стояло побольше нравственной мощи, чем за личным авторитетом каких-нибудь раз и навсегда опущенных советских граждан — родителей и школьных учителей. Когда святитель решит стать монахом, его семья от него откажется: произойдет полный разрыв с родителями на несколько лет, а когда отношения восстановятся, то близкими они так и не станут.
Но в юности, во время учения в Петербурге, будущий святитель выбирает христианство. Мы, люди советского и постсоветского времени, могли бы решить, что тут ему и карты в руки: в Петербурге тогда православные храмы встречались чуть ли не каждые 200 метров, в училище, где святитель учился, была домовая церковь (кстати, она и до сих пор сохранилась, а недавно была отреставрирована: это в Михайловском замке, ныне филиал Русского Музея), а по России было разбросано монастырей какое-то совсем уже несусветное количество, и это даже по сегодняшним меркам, когда монастыри и храмы РПЦ МП плодятся, как грибы. Но… понятное дело, жизнеописание святителя не стало бы житием, если бы тут не было никакого "но".
Разумеется, это "но" очень даже было, потому что оно есть всегда. И тут дело даже не в эпохе: просто христианство на земле устроено очень по-хитрому. В христианстве на земле есть оба пути, описанных в Евангелии, — и широкий, и узкий. Широким путем идут все те, кто ищет в религии чего-нибудь вроде "душевного покоя" (я уж не говорю, карьеры по духовному ведомству), на который охотнее всего обменивается искание Бога и спасение души. А что такое узкий путь — это еще надо понять…
Но посмотрим, как всё это выглядело в "конкретно-исторических условиях" России XIX века.
В начале была анекдотическая история, разыгравшаяся по очень серьезному поводу. Учащиеся Инженерного училища Брянчанинов и ближайший друг и единомышленник его Чихачев, решив стать серьезными христианами, захотели причащаться каждую неделю. Сначала им показалось, что для этого у них все удобства — в домовой церкви училища по воскресеньям всегда служилась литургия. Причащаться каждое воскресенье — норма христианской жизни, которая стала им известна из книг. По молодости лет они не представляли, в какой конфликт с "реальным православием" окружавшей их действительности они приходят. (Будем считать, что термин "реальное православие" вводится здесь по аналогии с Realpolitik: то, о чем в книгах не пишут. В случае православия — это то, что сплошь и рядом противоречит святоотеческому учению, но, в отличие от этого учения, как раз и служит настоящим законом для власть имущих).
Будь Брянчанинов и Чихачев из крестьян или из мещан — их просто послали бы куда подальше с таким желанием, причащаться, видите ли, каждую неделю. Особо благочестивые миряне тогда причащались 4 или 5 раз в год — в многодневные посты да, может быть, на именины. А нормальные люди причащались раз в год — ровно столько, сколько нужно было для отчетности перед начальством об "исполнении христианского долга". Об этом "исполнении" им выдавалась специальная справка, которую нужно было представлять по месту работы (разумеется, как смачно описывает Лесков, появилась и особая профессия: исповедоваться за других людей, которые сами не хотели, но были готовы заплатить). Ревнителей частого причащения Оптинские старцы специально предупреждали не причащаться чаще одного раза в пять недель — чтобы никого не вводить в соблазн; да и в самой Оптиной монахи чаще не причащались (если кто-то вдруг нарушал это правило — все сразу и с полным основанием решали, что у него какое-то особенное искушение).
Но Брянчанинов и Чихачев были из дворян, а с дворянами духовенство церемонилось и, прямо сказать, заискивало; дворяне могли позволять себе разные церковные чудачества. Но даже это не помогло несчастным студентам.
Юный Брянчанинов совершил непростительную ошибку: воспринял всерьез, то есть в соответствии с книжным образом пастыря, духовника училища протоиерея А.И. Малова. Мальчик перепутал (не зная о том, что они вообще различаются) две шкалы измерения: святоотеческо-книжную — с общественным положением того или иного "духовного" лица: он не знал, что современное ему православное по названию общество меньше всего склонно ценить свое духовенство за православие. Малов был известным в обществе проповедником, ценимым духовным начальством и известным в светском обществе. Но при чем тут Православие?
По-своему, в пределах игры в "реальное православие", Малов был как раз-таки очень старательным. Поэтому он сделал необходимые ему по должности выводы, когда юный Брянчанинов на исповеди стал ему говорить о том, что у него "греховные помыслы". Малов, видимо, такое слышал впервые — и стал действовать в соответствии с тогдашним законодательством: донес по начальству. Брянчанинова вызвали "на ковер", где, разумеется, поняли его не лучше, чем на исповеди. Так на него пало подозрение в политической неблагонадежности — впрочем, не помешавшее его светской карьере, от которой он потом насилу увернулся, так как его к ней приневоливали. (Тут необходимо историческое пояснение: такая трактовка тайны исповеди — обязывающая духовника рассказывать гражданским властям обо всем, что может иметь отношение к государственным преступлениям, — была введена в российское законодательство Петром I. Это одно из многочисленных церковных преступлений, закрепленных в законодательстве "православной" империи; о том, что в Церкви должно быть по-другому, мало кто вспоминал).
Брянчанинов и Чихачев все-таки осуществили свое желание причащаться каждую неделю — но в тайне от Малова и вообще вне всяких контактов с белым духовенством и приходскими церквами. Они нашли в Петербурге подворье Валаамского монастыря, где монахи отнеслись к ним с пониманием.
С подобными вмешательствами "реального православия" в обыкновенное, святоотеческое, св. Игнатию придется, само собой разумеется, сталкиваться всю жизнь. Он привыкнет. Иногда, однако, ему придется попадать в неудобные положения. Вот, например, эпизод, из-за которого он — на короткое, правда, время, но все-таки — лишился своего почти единственного покровителя, царя Николая I. А тут надобно сказать, что без мощной поддержки извне "духовной" среды, "собратия и сослужители" архимандрита, а затем епископа Игнатия моментально растоптали бы его и съели: для них он всегда оставался чужаком.
А вот и сама история — она относится к тому времени, когда архимандрит Игнатий настоятельствовал в Сергиевой пустыни под Петербургом (сейчас эта станция железной дороги на пути в Петергоф всё еще называется Володарская; от самой пустыни осталось не особенно много: главные церковные здания были уничтожены большевиками).
"Около этого времени, т.е. в конце 1839 года, знаменитая красавица того времени, фрейлина большого двора [т. е. двора императора, а не наследника] В. Нелидова, обратила на себя внимание государя. В начале января 1840 года, приехав в Сергиеву пустыню, она открылась об этом архимандриту и спрашивала у него как бы успокоения своей совести по отношению к ожидающему ее падению, оправдывая таковое величием того лица, которое участвует в ее грехе, влечет ее к нему, причем сообщила, что духовник государя В.Б. Бажанов уверял ее, что в этом нет ничего особенно грешного, и оставила архимандрита весьма недовольная тем, что архимандрит, напротив того, Словом Божиим доказывал ей, что высота внешнего положения человека, впавшего в грех этот, усиливает тяжесть греха, а никак не оправдывает ни ту, ни другую из согрешающих сторон" (С. 150-151).
О христианстве царя можно не говорить — хотя это были уже не самые молодые его годы, и он уже успел прославиться своей сентенцией по поводу смерти Пушкина "насилу заставили умереть по-христиански". Примечательна позиция его духовника — протопресвитера В.Б. Бажанова, одного из самых влиятельных людей во всей тогдашней Российской Церкви, чья должность уступала по важности только паре-тройке митрополитов. Митрополит С.-Петербургский Антоний тоже, разумеется, не остался неосведомленным об этом деле. История умалчивает о том, чтобы он как-то пытался повлиять на царя или на Нелидову, но что он точно попытался — так это "свалить" архимандрита Игнатия. Однако, не преуспел. Царь, конечно, и не думал слушаться духовных рекомендаций архимандрита, но, пожалуй, преодолев свое кратковременное раздражение на него, стал только больше его уважать.
В дореволюционной России духовенство потому и не уважали, что оно само не уважало тех принципов, на страже которых было поставлено; оно уважало только начальство. Основными актерами на исторической сцене всех уровней, от общероссийского до деревенского, обычно бывали люди светские, а духовенству — от митрополитов до деревенских батюшек — отводилась роль кордебалета. Но тем большее внимание обращали на себя исключения вроде святителя Игнатия. Нехристианское общество не могло с ними согласиться — но не могло их не уважать. Через исторический опыт XX века нам еще проще понять положение святителя Игнатия в тогдашнем обществе — то положение, которое он сохранял в течение всей своей жизни, положение православного человека в обстановке всеобщего "реального православия". Это было похоже на положение сохранивших собственное достоинство культурных людей в сталинских лагерях среди всевозможной "урлы" — которая начинала-таки этих людей уважать. (За подробностями лучше всего обратиться к "России в концлагере" Ивана Солоневича). Эта же аналогия легко объясняет столь устойчивую неприязнь к святителю Игнатию среди коллег по духовному ведомству: я не буду приводить того лагерного термина, которым обозначалась эта категория переломленных людей.
Здесь кончается тот этап духовной биографии святителя, который легко объяснить даже нецерковному человеку. Неискание житейских выгод, следование до конца выбранным принципам, чего бы это ни стоило, — всё это добродетели, которые ценятся и вне Церкви, и проявление их тут было достаточно очевидным, то есть достаточно внешним. Но теперь нам придется коснуться чего-то более внутреннего — и это тоже вполне можно объяснить светскому человеку, но лишь при условии, если он сам приложит чуть больше внимания, чтобы разобраться.
2. Второй поворот: лучшее как враг хорошего
Некоторые люди говорят, что они бы стали по-настоящему верующими, если бы с ними лично произошло какое-нибудь чудо. Эти бедные люди не знают, что говорят. Христос, по Евангелию, творил много чудес, но мало кто стал от этого верующим, — по крайней мере, по-настоящему. Чудо укрепляет в вере лишь тех, кто имел к этому внутреннюю готовность. Начинают вспоминаться всякие евангельские безнадежно больные… и начинаешь думать, что те люди, которые хотят уверовать от чуда, сами не знают, какого предварительного душевного состояния они для себя просят.
Обычно мы получаем помощь Божию через посредство людей и обстоятельств, и такие случаи мы чудесными, чаще всего, не считаем. Точнее, начинаем, иной раз, считать — но лишь после того, как в нашем опыте появятся случаи помощи Божией помимо кого и чего бы то ни было. Но такие случаи непосредственной помощи Божией возможны лишь тогда, когда для нас исчерпаны все "средства" — и люди, и обстоятельства, то есть когда мы проходим через абсолютное одиночество. Обычно люди настолько этого боятся, что им не надо никакого Бога, только бы не проходить через такое. Но без "такого" христианства не будет: будет только христианская "тусовка" с приятными, или, на жаргоне, "единомудренными" людьми. Оно, может, и неплохое времяпровождение, но приходящие в Церковь "отдохнуть душой" Царствия Божия не наследуют: спасают душу не те, кто ей, душой, "отдыхает", а те, кто ей работает.
Во всем Житии святителя Игнатия есть только одно чудо, и оно относится к ключевому моменту всей его духовной биографии: расставанию с отцом духовным, иеромонахом Леонидом (Наголкиным), впоследствии первым Оптинским старцем, в схиме Львом. Этот же момент был тем, что мы выше определили как достижение "второго поворота" духовной биографии. В результате этой истории послушник 21 года, еще не получив монашеского пострига, потерял своего первого и единственного за всю жизнь духовного руководителя, причем, "духовного" не в формальном смысле слова, а в самом реальном, когда "духовный" граничит с "духоносным". После этого на всю жизнь в качестве руководителя ему останутся только книги.
Подобный этап биографии не может не быть переломным, и именно к нему относится единственное чудо во всем Житии. Не буду передавать внешних подробностей чуда — о них лучше прочитать в оригинале, — а только отмечу главное. Живя в одном из монастырей в крайне тяжелых условиях, будущий святитель сильно разболелся и уже не мог пойти в церковь. Так ему пришлось пропустить утреню. Но за это время в "тонком сне", то есть в состоянии легкой дремоты, ему было видение Креста и голос Спасителя, утвердивший его на пути отречения от мира. После этого послушник встал здрав и, по наблюдением его друга и тоже послушника Чихачева, именно с тех пор получил особый дар рассуждения — разрешать всякие трудные вопросы духовной жизни.
Духовник молодого Брянчанинова старец Леонид, узнав о видении, окончательно уразумел волю Божию о своем послушнике и освободил его от всякого послушания своей духовной власти. — Впрочем, так повествует только наше Житие, которое приведено во всеобщую известность лишь сейчас, а до сей поры эти сведения были доступны лишь чрезвычайно узкому кругу лиц, едва ли не все из которых умерли не позднее начала ХХ века.
В Оптиной пустыни передавалось совсем другое предание о расставании старца Леонида с будущим святителем Игнатием, и именно оно стало общеизвестным. Ни о каком видении там не упоминалось вообще, но зато упоминалось якобы пророческое изречение старца Леонида по поводу самовольного (в этом предании именно так) отлучения его послушника: если бы остался в послушании — то стал бы, как Арсений Великий (то есть теперь, после ухода, уже никогда не достигнет такой духовной высоты). Источник у этого предания мог быть только один: сам старец Леонид. Очевидно, он вежливо промолчал на рассказ своего послушника о видении, а для себя сделал лишь один вывод: "насильно мил не будешь".
Ссылка на Арсения Великого объясняет тут очень многое. Преподобный Арсений был (в конце IV века) воспитателем будущих императоров Аркадия и Онория, блестящим ученым и цередворцем. Но, став монахом, он в своем отречении от мира отрекся от всяких интеллектуальных занятий и даже почти от всякого общения с людьми. Возможно, подобный путь готовил и старец Леонид для своего послушника; по крайней мере, смиряя своего "дворянчика", он всё время заставлял его опрощаться и "не мудрствовать"...
В этих двух конфликтующих преданиях о развилке между двумя духовными традициями — Оптинской и "Брянчаниновской", — как в фокусе линзы, собрана вся многолетняя история их тихого, но упорного противостояния, которая, пожалуй, не прекратилась не только после смерти святителя Игнатия, но даже и после смерти монастыря Оптина пустынь в 1920-е годы.
Особая ценность нашего Жития — в том, что оно пытается объяснить, чем же не подошел старец Леонид в качестве духовника молодому Д. А. Брянчанинову:
"Спустя год первая горячность, с какой Димитрий Александрович предался в руководство старца, стала остывать. К этому присоединилось недовольство его старцем. Некоторые поступки старца казались ему не согласными с учением св. отцов, а также о. Леонид не мог удовлетворительно отвечать на все его вопросы, разрешать все его недоумения. Вероятно, эти вопросы касались более возвышенных сторон жизни духовной, которая в высших своих проявлениях в каждом подвижнике представляет свои особенности, а потому неудивительно, что о. Леонид, при всей своей мудрости духовной, не мог удовлетворительно разрешить такие вопросы." Уже в последние годы жизни святитель Игнатий рассказывал брату, "…что во всю жизнь Господь не приводил его встретиться с духовно-опытным старцем, которому он мог бы открыть вполне свою духовно-деятельную жизнь <...>. Впрочем, с признательностью и уважением вспоминал он всегда о наставнике духовном своего новоначалия, старце о. Леониде…" (с. 54–55).
Если бы мнение святителя Игнатия о недостатках духовного руководства у старца Леонида не было бы им пронесено через всю жизнь, мы могли бы от него легко отмахнуться — как это и сделала Оптинская традиция. Ведь знающим людям хорошо известно, что у любого послушника начинаются искушения недоверием к руководителю: дела этого руководителя выставляются его умственному взору в неблагоприятном свете, ему кажется, что руководитель его не понимает и даже не может понять… Казалось бы, всё тривиально. Но ведь всё и на самом деле иногда бывает именно так, как кажется послушнику. Было бы очень грубой ошибкой думать, будто искушение, которое надлежит преодолевать в послушничестве, состоит в механическом отсечении всякого помысла недоверия к руководителю. Такая ситуация бывает, но крайне редко: только в том особом виде совершенного послушания, которое описано у древних учителей монашеской жизни, вроде аввы Дорофея (начало VI в.), и которого, по словам святителя Игнатия, нашему времени не дано (у него самого было несколько подобных послушников, но из-за этого он только лучше понимал, что эти исключения лишь подтверждают правило).
Обычно же послушнику надлежит проходить другое искушение — буквально, проходить между Сциллой и Харибдой: между беспрекословным послушанием и критической оценкой руководителя. "Критической" — в том смысле, что доверие к руководителю может быть основано только на его согласии с учением святых отцов и может иметь лишь ту меру, в какую руководитель действует по-святоотечески. Изучение святоотеческого учения для всякого христианина, а особенно для монаха, должно следовать впереди послушания духовнику. А духовник должен приучать к руководству святых отцов, а не к своему собственному.
На этом и настаивал всегда святитель Игнатий, но как раз этого акцента и не было в Оптинском представлении о послушании руководителю.
По святителю Игнатию, получалось, что все-таки главным руководителем в духовной жизни оказываются писания святых отцов. Но эти писания в первой половине XIX века были почти неизвестны в русских переводах и лишь с трудом досягаемы в переводах славянских: на славянский было переведено больше, чем на русский, но лишь малая часть была издана типографски; в то же время, культура распространения рукописной книги была уже, практически, утрачена. Нужно было читать святых в греческих и латинских оригиналах, благо, оба этих языка были известны святителю Игнатию с детства, а из-за границы можно было выписать прекрасные собрания святоотеческих текстов.
Если бы будущий святитель принял на себя послушание "по-оптински", то он навсегда бы отсек себя от главного источника святоотеческой премудрости — книг. Путь Арсения Великого в условиях России XIX века становился слишком рискованным: отсечение интеллектуальных занятий обернулось бы отсечением себя от "божественных Писаний" — как еще преподобный Нил Сорский († 1508 г.) именовал святоотеческие творения, послушание которым и он, и еще для своего времени, рекомендовал более, нежели послушание человеку.
Страшно было выбирать из двух зол меньшее: расстаться с отцом духовным или расстаться с божественными Писаниями. Проблема не стояла бы так остро, если бы в духовнике никогда не замечалось разномыслия с Писаниями — но разномыслие было замечено, и выбор был неизбежен. Здесь святитель Игнатий выбирал не только за себя, и даже не только за своего друга Чихачева и, пожалуй, даже не только за своих будущих учеников и духовных чад. Его выбор был сделан и за тех — а точнее, для тех, — кто, не умея читать по-гречески и по-латыни, мог пойти по стопам святителя Игнатия, узнавая уже через его учение "неразбавленное" святоотеческое христианство.
Но тут позволительно спросить: неужели Оптинская традиция не вступала в конфликт с "реальным православием", не испытывала гонений от всяких церковных бюрократов и завистников? Неужели Оптинские старцы не стремились во всем следовать святым отцам и распространять их учение? — На все такие вопросы нужно ответить "да": были и конфликты, и гонения, и стремление всюду распространять святоотеческое учение. Можно даже заметить, что именно в Оптиной, а не святителем Игнатием создавалась прекрасная школа перевода произведений святоотеческой письменности на русский язык. Выходит так, что основные, "стратегические" цели в обеих традициях, у Оптинцев и у св. Игнатия, были одинаковые? — Да, разумеется: иначе Оптина пустынь и не могла бы дать столько святых.
Бывает, однако, так — и это далеко не редко в истории Церкви, — что и между святыми возникают разногласия относительно "тактики" духовной жизни. И при этом не всегда можно сказать, что каждый прав по-своему. Бывает, что кто-то прав, а кто-то неправ.
Для духовной жизни не только вопросы "стратегии", но и вопросы "тактики" далеко не пустячные. Важнейшим вопросом "тактики" всегда является вопрос о допустимой мере компромисса с окружающей средой, которая для желающего жить по-христиански есть всегда среда агрессивная.
Мы уже могли заметить из одного примера различие во взглядах на жизнь в среде "реального православия": святитель Игнатий настаивал на частом причащении, как этого требует Церковь, а Оптинские старцы — на компромиссе: раз в пять недель. Учение Церкви, выраженное Шестым Вселенским собором, запрещает причащение реже, чем раз в три недели, но синодальные порядки, выраженные в Катехизисе митрополита Филарета, допускали причащение лишь четыре и даже один раз в год. Этот пример характерен: там, где святитель Игнатий настаивает на соблюдении церковного, Оптинцы держатся чего-то среднего.
Две традиции расходились и в вопросах, еще более важных, включающих богословие и учение о внутренней молитве, но, чтобы не углубляться в эти специальные материи, мы остановимся еще только на одном примере. Он хорош тем, что совершенно прямо касается "вопроса об авторитетах".
Как известно, Оптинское книгоиздание началось с переводов святых отцов, когда подобные переводы далеко не поощрялись духовной цензурой. Только постоянная поддержка митрополита Московского Филарета (Дроздова; автора помянутого Катехизиса) позволила наладить дело. Однако, когда дело наладилось, то есть после более чем десяти лет весьма успешного книгоиздания, около 1860 г., тот же митрополит Филарет сказал Оптинским старцам, что, пожалуй, отцов публиковать уже хватит, и лучше бы им переключиться на публикации по истории их собственного монастыря. И Оптинцы это исполнили, причем, не за страх, а за совесть. Конечно, ценность появившихся таким образом книг невозможно преуменьшить, но ведь и не менее очевидно, что огромный корпус святоотеческой аскетической литературы, который все еще оставался непереведенным, был нужен в России гораздо более. Если святоотеческие наставления для духовной жизни — это хлеб, то жития Оптинских старцев — это масло, без которого можно и обойтись.
Оптинский старец Амвросий, которому и пришлось получать эту рекомендацию митрополита Филарета, никак нам ее не откомментировал, но хорошо известно, что он доверял митрополиту и как богослову, и как пастырю. — Да оно и не удивительно: в последние годы своей жизни митрополит Филарет († 1867 г.) был самым известным и самым авторитетным иерархом не только Российской церкви, а и всего православного мира.
В области церковного управления талант и опытность митрополита Филарета граничили с гениальностью, но лозунгом его было — "ничего слишком", даже "ничего святоотеческого слишком". Он стремился к настоящей церковности, но лишь до тех пор, пока это не начинало нарушать основы тогдашнего церковного строя. Он вполне мог почувствовать и, пожалуй, куда лучше Оптинцев, к чему приведет слишком большое "увлечение" русского монашества той внутренней духовной жизнью, о которой пишут святые отцы. Оно приведет к тому же, к чему оно уже привело в случае Игнатия Брянчанинова, — а случай этот был митрополиту хорошо известен.
Понимая, что святителя Игнатия нельзя официально обвинить ни в каком нарушении церковных правил или погрешностях против святоотеческой аскетики, митрополит всегда сохранял с ним внешне благожелательные отношения. Однако, достаточно скоро почувствовав в нем другой дух, нежели его собственный, он использовал всякий удобный случай, чтобы ограничить влияние святителя Игнатия и всячески стеснить его в служебной карьере. Разумеется, те страницы нашего Жития, где об этом повествуется, были не особенно удобны для публикации в 1880-е гг., когда на книжный рынок выплескивалось целое море посвященной митрополиту Филарету апологетической литературы. В 1994 г. митрополит Филарет был канонизирован РПЦ МП. Нетрудно было бы предсказать реакцию святителя Игнатия, который как-то сказал по сходному поводу: "Мир любит своё".
Оптинцы доверяли Филарету, а Филарет сочинял собственную мифологию, в которой "реальное православие" примирялось с настоящим в каком-то диковинном сочетании. Из так называемых "Мнений и отзывов" Филарета (предназначавшихся не для печати, но опубликованных посмертно) иногда можно заметить, что он и сам неплохо понимал, что его образ Православия — не в последнюю очередь, продукт его собственного творчества. Так, замечателен по откровенности его отзыв на публикацию кощунственных бумаг Петра I, содержание которых служило живым опровержением лелеемого Филаретом мифа о церковно-государственных отношениях в императорской России: "причиняющие соблазн сказания, достойные только гнить в архивах". (Как это всё нам напоминает коммунистическое отношение к писаниям Маркса-Энгельса-Ленина, засекреченная часть которых никогда не могла войти ни в одно из "полных" собраний сочинений…)
Неплохо только иметь в виду, что реальные факты — будь то факты истории или святоотеческого учения — причиняют "соблазн" только тому, кто решил верить не в реальность, а в фантазию.
В ряду "сказаний, достойных только гнить в архивах" оказалось, само собой, и подлинное Житие святителя Игнатия Брянчанинова — святого, который учит нас, прежде всего, тому, что Православие — это не область "благочестивых фантазий", а реальность, в которую нужно верить, и на которую нужно опираться.
3.Немного о знаках дорожного движения и о разметках дорог
Мы привычно относим словосочетание "жизненный путь" и к христианской жизни, но, коль скоро так, нам будет позволительно немного детализировать метафору дороги. На христианской дороге — множество всяких знаков и указателей, и только меньшинство из них не врут: это и есть настоящее святоотеческое учение. Другие — врут, иногда непохоже, а иногда и похоже на правду. Бывает очень трудно их не послушаться, особенно христианину, для которого послушание Церкви — первая необходимость в деле спасения. Христианин — это человек, который привык слушаться, но именно поэтому от него тем более требуется постоянная настороженность, чтобы не послушаться греха.
Как часто даже в миру "общее мнение" проводит для нас какие-то границы, которые мы боимся переступить, — тем более это бывает в Церкви, где между "общим мнением" любого наличного сообщества христиан и настоящим святоотеческим учением всегда бывает некоторое напряжение, некоторая разность потенциалов.
Церковь сама себя называет "врачебницей", то есть заведением для больных, и потому для нее на земле неизбежно отличие от общества здоровых, то есть святых: "реальное православие" — это не религия XIX века; это религия "больных" христиан, христианского большинства, любого места и времени: где-то она может быть хуже или лучше, но она всегда препятствует спасению, а поэтому дело каждого из христиан — не быть "как все", а быть, как Бог велит, при этом не осуждая тех, кто, как может показаться (а наверняка этого знать нельзя), живет "как все".
Нужно не бояться переходить через ограничительные линии, которые нарисованы "общим мнением" -- потому что "все так думают", -- нужно не бояться порвать с родителями, потерять карьеру, разгневать начальство и даже, бывает, расстаться с единственным духовным отцом. Это не более чем линии, для перехода через которые не нужно ничего, кроме решимости, но которые вполне реально отделяют нас от жизни с Богом. А решимость бывает тогда, когда человек верит в Бога больше, чем в человеков и в человеческие изобретения.
Мир обводит вокруг нас свой магический круг, но мы можем и должны его переступить.